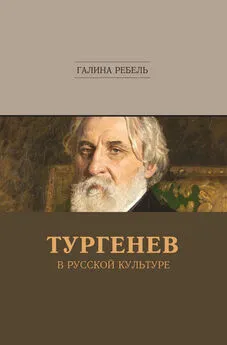Галина Ребель - Тургенев в русской культуре
- Название:Тургенев в русской культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4469-1356-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Ребель - Тургенев в русской культуре краткое содержание
Тургенев в русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть в русской литературе едва ли не буквальное интонационно- психологическое повторение этого рудинского признания – «Диалог Гамлета с совестью» Марины Цветаевой:
– На дне она, где ил
И водоросли… Спать в них
Ушла, – но сна и там нет!
– Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
– Гамлет!
На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах…
– Но я ее любил,
Как сорок тысяч…
– Меньше
Все ж, чем один любовник.
На дне она, где ил.
– Но я ее —
любил??
Перекличка эта (наверняка непроизвольная, обусловленная принадлежностью героя Тургенева и героя Цветаевой к одному типологическому гнезду) очень знаменательна, так как позволяет дополнительно акцентировать гамлетовскую вопрошающую природу героя. Психологический анализ не может здесь «рассеять недоумение читателя» не потому, что «останавливается на пороге главных тайн индивидуальности героя» 62 62 Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (3050-е годы). С. 119.
, как это, например, происходит в случае Лизы Калитиной, но потому, что эта индивидуальность не поддается аналитическому пришпиливанию , к которому так любил прибегать сам Рудин. «Неоконченное существо», каким представлен герой тургеневского романа, не измеряется фиксирующими некую одномоментную определенность приемами психологического аналитизма, вернее, самый этот аналитизм здесь возможен только в такой – вопрошающей (изнутри героя к самому себе и извне к нему) – форме.
С точки зрения Л. Гинзбург, герой Тургенева непонятен вне реального исторического контекста, которым порожден, она, вслед за Л. Пумпянским, полагает, что «Тургенев в своих романах действительно хотел создать “беспримесную”, устойчивую модель исторического характера», и рассматривает Рудина исключительно в свете первоначальной лежневской характеристики, с одной стороны, сужая до нее образ, а с другой – настаивая на его неконвенциональности, непрозрачности вне указанных рамок: «Что, например, получится, если из обличающей лежневской характеристики Рудина извлечь набор “общечеловеческих” свойств? <���…> Умный, пустой, холодный, деспот, фразер, позер, бесцеремонный в денежных делах и т. д. Но все это не адекватно Рудину. Не похоже. В контексте романа этот подбор свойств не складывается в образ – без ориентации на Бакунина, на кружки и умственную жизнь 30-х годов, на людей 40-х годов. Изображенные Лежневым свойства Рудина – это особые свойства, по самой своей фактуре исторические. Его слабохарактерность и нерешительность – это рефлексия, исследованная Белинским; его фразерство – не вообще фразерство, но те ходули и фраза, с которыми враждовал Станкевич; его деспотизм порожден формами кружкового общения». И далее следует знаменательный вывод: «Свойства Рудина не существуют вне его исторической функции русского кружкового идеолога 30-х годов» 63 63 Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: СП, 1971. С. 309, 310–311.
.
Но если это так, если свойства Рудина не существуют вне его конкретно-исторической функции и вне реальной жизненной обстановки, его породившей, то роман Тургенева «Рудин» мертв как художественное произведение и ничего не может сказать читателям, пребывающим в неведении относительно соответствующего исторического контекста и его персоналий. Между тем Анненков, одним из первых указавший на то, что в «Рудине» «является <���…> почти историческое лицо», формулирует свойства этого лица таким образом, что оно, при всей своей характерности для определенной эпохи, обретает расширительный, общенациональный и вневременной смысл: наделенное «смело-отрицательным, пропагандирующим характером», оно «является как несостоятельная личность в делах общежития, в столкновениях рефлектирующей своей природы с реальным домашним событием» 64 64 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 392.
. В этом описании угадываются и Чацкий, и Бельтов, не говоря уже о собственно тургеневских прототипах образа Рудина, а в общем это типичный русский Гамлет – тургеневский Гамлет: «абстрактная русская натура, устраняющаяся и пассирующая перед явлениями, им же и вызванными на свет» 65 65 Там же.
.
Абсолютизируя социально-историческую конкретику образа Рудина, Гинзбург игнорирует романический многомерный способ подачи героя, которого мы видим отнюдь не только глазами «кружковца» Лежнева, более того, почему-то сбрасывается со счетов то, о чем тот же Лежнев говорит в двух последних эпизодах романа, когда он, по сути дела, опровергает, вернее, переосмысляет собственные оценки.
Образ Рудина двоится с самого начала, но до определенного момента это преимущественно двоение между внешними (публичными) предъявлениями и не соответствующей им внутренней сущностью. Такая подача героя достигает своей кульминации в развязке любовной истории, в классической ситуации на rendez-vous. Гамлетовский вопрос у Тургенева становится вопросом о состоятельности на любовном свидании, а сам Гамлет-Рудин предстает рефлектером, слова которого «так и остаются словами» – слова, слова, слова … Таков смысловой итог условной первой части (одиннадцати глав) романа, которая, завершись повествование на этом месте, действительно осталась бы повестью с романическим потенциалом , обеспеченным сюжетно нереализованной многомерностью подачи героя, и драматургической интенцией , сказавшейся в диалогической интенсивности и «постановочности» целого ряда эпизодов. В этом смысле прав был В. Баевский, писавший о том, что «“Рудин”, стоящий на рубеже “старой” и “новой” манеры, является своего рода энциклопедией жанров Тургенева» 66 66 Баевский В. С. «Рудин» И. С. Тургенева: К вопросу о жанре // Вопросы литературы. 1958. № 2. С. 138.
.
Однако далее в романе происходит незаметный внешне, но очень существенный повествовательный сдвиг. Во-первых, герой перехватывает инициативу и на все разоблачения, кульминацией которых становится «проповедь» разочарованной в своем избраннике Натальи Ласунской, отвечает горькими признаниями в прощальном письме к ней. Этим письмом, с одной стороны, подтверждается чужой приговор, с другой – этот приговор существенно корректируется, ибо под очевидным извне несовпадением фразы и сути обнаруживается внутреннее, сущностное, осознанное и тяжело переживаемое самим героем противоречие. Во-вторых, автор словно спохватывается и дает задний ход. В сущности, первоначальная художественная задача выполнена, герой в полной мере оправдал сюжетные ожидания и повесть на этом должна была бы закончиться, как закончилась «поражением» на rendez-vous история господина Н. Н. («Ася»). Но Тургенев на сей раз пишет не повесть, а удлиненную повесть , то есть – роман. И хотя и не очень ловко структурно – швы вывернуты наружу, пропорции не соблюдены, – автор ломает заданную было логику предъявления героя и, прибегнув к помощи безотказного сюжетного двигателя – дискретно данного течения времени (перескочив через два года, а потом, в эпилоге, еще через несколько лет), выбирается из рамок любовной истории, расширяет и углубляет картину, вписывает героя в хронотоп дороги, нескончаемого скитальческого пути, и вновь сводит его с Лежневым, который из главного обвинителя Рудина превращается в его пылкого защитника.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: