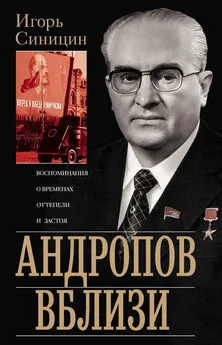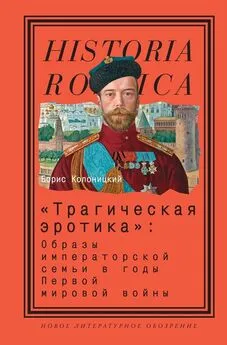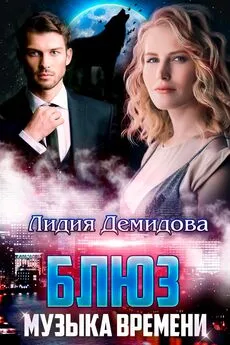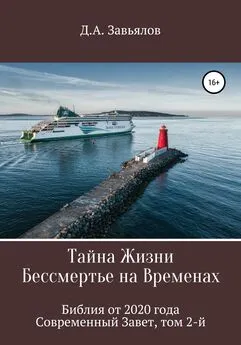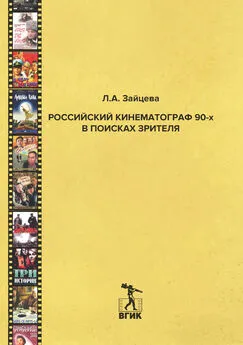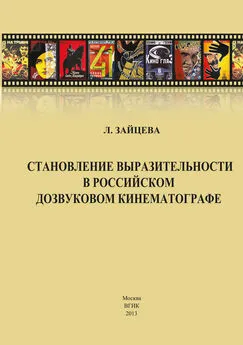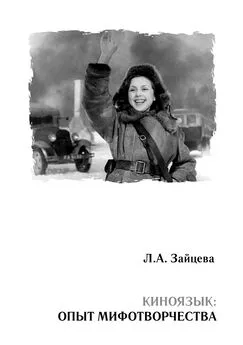Лидия Зайцева - Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)
- Название:Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4469-1151-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Зайцева - Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы) краткое содержание
Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Багрово-красным вспыхнули угли костра. Зазвучала музыка. Пошла цветовая симфония наплывов и панорам по деталям рублёвских икон.
Хлынул белый дождь, смыл поющие краски, оставил лишь вечное, земное: пасущихся на лугу коней, раскаты отгремевшей грозы…
Последняя, одиннадцатая часть второй серии снята на цветной плёнке.
Линия Андрея Рублёва постепенно сложилась, выход к иконе «Троица» стал художественным завершением «Колокола».
Как же «озвучена» поэтическая мелодия, авторский голос в подробностях зрительного ряда?
Некоторые критики упрекали фильм в том, что нет в картине кадра, где мастер творил бы с кистью в руках… Но «Колокол» – это и есть труд художника: изматывающий нервы и силы, тяжёлый физический труд (помните, у Маяковского? «Изводишь единого слова ради / Тысячи тонн словесной руды…»). И вовсе не случайно выбран, да ещё с такой тщательностью показан трудоёмкий в самом прямом смысле процесс выплавки: реальная работа, в которой материализуется божественный дар художника.
Это ключ к зрительному ряду новеллы. И чем точнее, реалистичнее детали, сам процесс труда, тем убедительней одухотворённость внутреннего горения.
Если вникнуть, то все компоненты подробно пересказанного события окажутся одновременно и слагаемыми образного обобщения – иносказания. В этом феномен притчи. Найдут подтверждение опоры композиции, где переплетаются линии Андрея и Бориски, работы и молчания, Кирилла и Андрея, мастеров и Бориски, ликующего народа и княжеской свиты, стоящей на коленях толпы и счастливого лица преображённой Дурочки.
В зрительном ряду получила воплощение и ещё одна метафора творчества – горение: извечный образ, характеризующий труд художника.
Тема огня реализована в отливке колокола, в обжиге. Фактура действия, вещный, предметный мир совсем не затеняет, а, напротив, именно воплощает мифологический ряд, подкреплённый традициями искусства, народных представлений о творчестве.
Не случайно выбрано и «произведение», итог приравненного к работе процесса творчества.
Почему именно колокол? Не новый храм, например, не обновлённый иконостас, не церковный хорал? А колокол… Что для России, для её истории и искусства народа набат? Раскаты гудящей меди… В них – и храм, и иконы, и молитвы. Но кроме того, в набате тревога и торжество, проклятье и призыв к помощи, к единению, беда и неподдельная святость праздника. Набат, наконец, это и голос поэта, художника. Глас, пробуждающий человеческое сердце «во дни торжеств и бед народных», – Колокол.
Удивительная точность поэтического видения подсказала авторам предмет, издавна в искусстве бытующий как символ. И процесс его сотворения превращён на экране в поэтическую притчу о назначении художника.
Можно, к слову, по всем фильмам А. Тарковского проследить нарастание образной нагрузки на повторяющиеся, знаковые для автора предметные подробности кадра. Не секрет, что многие из них носят в народном сознании обрядовый характер, воспринимаются как сакральные, наполненные духовным смыслом истоки бытия. Таков в данном случае и колокол.
В «Андрее Рублёве» процесс его отливки самостоятелен по всем линиям: и как реальный объект действенного ряда, как доминирующая зрелищная деталь, и как основа иносказания. Это, по сути, развёрнутая, динамически развивающаяся метафора, которая содержит в своём основании укоренённую в нашем искусстве традицию. Она-то и организует художественную систему новеллы.
Звуковой фон её тоже предельно, кажется, реалистичен. Он постепенно локализуется, все элементы исподволь подтягиваются к доминирующей теме. «А колокол-то и не зазвонит!» – горько смеётся Бориска в момент, когда уже начат обжиг. Ритмично, слаженно работают литейщики. Уже нет ни одного лишнего слова, только гудят печи. Да Бориска молит о чуде. И сразу – о пощаде: «Господи, помоги!..» [11] См.: Андрей Рублёв. Монтажная запись художественного кинофильма. – М.: Рекламфильм, 1969. – С. 29–32.
Глухие удары по обожжённой глине сами ещё не предвещают ни счастливого, ни трагического исхода. Но уже идёт страстный, покаянный монолог Кирилла, а на последних его словах возникает далёкий перезвон… Звуковой фон диалога в Андронниковом монастыре предвещает разрешение внутреннего конфликта всего фильма.
Партитура звукового ряда заключительной части новеллы музыкальна по композиции. Это ощущается в сведении многотемного, многоголосого звучания к своеобразному, симфонически организованному финалу.
Раскачивается язык колокола. Мастера прислушиваются и ждут. Но сам колокол ещё молчит. За кадром вместо него чужеродная речь послов, крик сотника, диссонирующий речитатив толпы. И вот под этот общий «распев» начинает нарастать какой-то особенный, приглушённый и властный гул проснувшейся меди. Качается язык колокола, нарастает звук, слышна неторопливая речь. И наконец, – в тот момент, когда оборачивается Андрей, – грянул первый удар. Состоялся… Плачет Бориска у догорающего костра.
Кадры всеобщего ликования, проходящей Дурочки, счастливых и горьких слёз Бориски, разрешения обета молчания Андрея – всё идёт под мерные, торжественные, призывные удары колокола, подаренные одним художником другому. Гармония звукового ряда сводит воедино, к разрешению, все параллельные линии новеллы. Шум дождя и далёкие раскаты грома венчают звуковой образ, завершается развёрнутая в его композиции метафора…
Итак, творческий процесс реализован в выплавке колокола: все его компоненты приобретают иносказательный смысл.
В этом, пожалуй, одно из самых характерных отличий поэтического принципа детализации от повествовательного, где доминирует, остаётся только последовательность реалистических обстоятельств. Отдельный предмет, поступок, деталь работают в «Андрее Рублёве», напротив, как составная часть, звено динамически развёрнутого образа.
Пламя горящих печей, расплавленный металл – не только бытовые реалии конкретного производственного процесса, здесь это – психология творчества. Не что иное, как метафора, и сам колокол. Речь идёт уже об «интерактивной» загрузке этого образа мощнейшим культурным слоем его толкования в искусстве. Именно это должно возникнуть в зрительском восприятии.
Для Андрея Бориска, человек следующего поколения, – свой по восприятию мира. Монашеская братия – это одно, а настоящее человеческое братство – совсем другое. («Пошли мне, Господь, второго, / Такого же, как я», А. Вознесенский.) Их встреча отразила глубоко личные мотивы творчества А. Тарковского, воплощённые так или иначе в каждом его фильме…
Духовное родство художников оттепели с вступающим в жизнь новым поколением как раз и реализовали в кадре молодые герои.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: