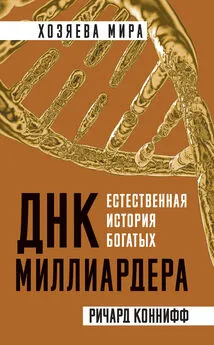Бертран де Жувенель - Власть. Естественная история ее возрастания
- Название:Власть. Естественная история ее возрастания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91603-579-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бертран де Жувенель - Власть. Естественная история ее возрастания краткое содержание
Власть. Естественная история ее возрастания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Следовательно, Власть не совпадала с нацией субстанциально: она имела собственное бытие. И ее сущность вовсе не состояла в ее правом деле или правой цели. Власть способна существовать как чистое повелевание. И чтобы постичь ее субстанциальную реальность, надо рассмотреть теперь именно то, без чего не бывает Власти, – эту самую сущность, которая есть повелевание.
Я возьму, таким образом, Власть в чистом состоянии – как повелевание, существующее само по себе и для себя , – в качестве фундаментального понятия и, оттолкнувшись от него, попытаюсь объяснить черты, развитые Властью в ходе исторического развития и столь изменившие ее вид.
Синтетическая реконструкция феномена Власти
Приступая к такому рассмотрению, надо полностью развеять недоразумения как эмоционального, так и логического порядка.
Невозможно построить умозаключение, объясняющее конкретные политические явления, если читатель – а такова, к сожалению, сегодня его позиция – хватается за часть этого умозаключения, чтобы оправдать свою пристрастную позицию, или с этой позиции обрушивается на него. Если, например, из понятия чистой Власти выводят апологию господствующего эгоизма как принципа организации, то в этом понятии хотят видеть зачаток такой апологии. Либо еще заключают, что Власть, в принципе порочная, есть сила, главным образом творящая зло, или приписывают это мнение автору.
Надо понимать, что мы исходим из абстрактного, четко ограниченного понятия, с тем чтобы в ходе последовательного логического продвижения вернуться к сложной реальности. Для нашего предмета существенна не «истинность» базового понятия, но его «адекватность», т. е. оно должно быть способным обеспечить связное объяснение всей доступной наблюдению реальности.
Таков ход всех наук, нуждающихся в фундаментальных понятиях, вроде «линия» и «точка» или «масса» и «сила».
Не следует, однако, ожидать – это второе возможное недоразумение, – чтобы мы подражали строгости этих великих дисциплин, по отношению к которым политика всегда будет оставаться в несравненно более низком положении. Если даже самая абстрактная с виду мысль сопровождается образами, то политическая мысль ими полностью управляется.
Геометрический метод был бы здесь уловкой и обманом. Мы ничего не можем утверждать относительно Власти или общества без того, чтобы в нашем сознании не возникали события предшествующей истории.
Наша попытка реконструировать последовательную трансформацию Власти не претендует, таким образом, на то, чтобы быть диалектической теорией, ничего не заимствующей из истории, и есть не более чем исторический синтез. Мы лишь стремимся разобраться в сложной природе исторической Власти путем рассмотрения тысячелетнего взаимодействия идеально упрощенных причин.
Одним словом, необходимо понять, что речь здесь идет исключительно о Власти в больших целостностях.
Мы уже установили, что чистая Власть состоит в повелевании, которое существует само по себе.
Это представление наталкивается на широко распространенное мнение, что повелевание есть некое следствие. Следствие естественной склонности сообщества, которое своими потребностями побуждается к тому, чтобы «отдаться» вождям.
Идея повелевания как следствия плохо подтверждается. Из двух гипотез, по предположению не поддающихся проверке, разумный метод требует выбрать более простую. Проще представить одного или нескольких индивидуумов, имеющих волю к повелеванию, чем всех, имеющих волю к повиновению, и скорее – одного или нескольких индивидуумов, движимых страстью господства, чем всех, склонных покоряться.
Разумное согласие на дисциплину является по природе более поздним, чем инстинктивная страсть господства. Оно всегда остается политическим – менее активным – фактором. Сомнительно, чтобы оно возникло само по себе и даже чтобы его способно было породить коллективное ожидание повелевания.
Более того. Идея о том, что повелевание было желанно для тех, кто повинуется, не только маловероятна. Относительно больших целостностей она противоречива и абсурдна.
Ибо она подразумевает, что коллектив, в котором устанавливается повелевание, имел общие потребности и чувства, что он был общностью. Однако широкие общности были созданы, как об этом свидетельствует история, не иначе как именно посредством подчинения разнородных групп одной и той же силе, одному и тому же повелеванию.
Власть в принципе не есть проявление, или выражение, нации, и не может им быть, поскольку нация рождается лишь в результате долгого сосуществования отдельных элементов под одной и той же Властью. Последняя обладает неоспоримым первородством.
Повелевание как причина
Эта очевидная взаимосвязь была затемнена в XIX в. метафизикой национальности. Воображение историков, потрясенное захватывающими демонстрациями национального чувства, проецировало в прошлое, даже самое отдаленное, реальность настоящего. Недавние «единства чувств» они восприняли как предшествование их нового осознания. История стала романом Нации – особы, которая, как героиня мелодрамы, в условленный час вызывала необходимого ей заступника.
Посредством странного превращения грабители и завоеватели, вроде Хлодвига или Вильгельма Нормандского, стали служить воле к жизни французской или английской нации.
Как искусство, история благодаря этому выиграла колоссально, найдя, наконец, то единство действия, ту непрерывность движения и особенно тот центральный персонаж, которых ей прежде недоставало [160].
Но это только литература. Верно, что «коллективное сознание» [161]– явление самой глубокой древности; требуется все же добавить, что это сознание имело узкие географические границы. Непонятно, как иначе оно могло быть расширено, если не посредством связывания друг с другом отдельных обществ, – а это дело повелевания.
Многие из авторов совершают чреватую последствиями ошибку, утверждая, что такое большое политическое формирование, как государство, возникает естественным образом вследствие человеческой общительности. Это кажется само собой разумеющимся, поскольку таков, конечно, в самом деле принцип общества как факта природы. Но такое естественное общество является малым . А переход от малых обществ к большим не может происходить таким же образом. Здесь нужен связующий фактор, каковым в подавляющем большинстве случаев является инстинкт не объединения, а господства. Именно инстинкту господства обязаны своим существованием большие целостности [162].
Нация не создавала сначала своих вождей по той простой причине, что она им не предшествовала ни на деле, ни по инстинкту. Пусть нам поэтому не объясняют стягивающую и согласующую энергию человеческого сообщества посредством какой-то там эктоплазмы *, внезапно возникшей из его глубин. Наоборот, в истории больших целостностей эта энергия является первопричиной, за пределы которой нельзя выйти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
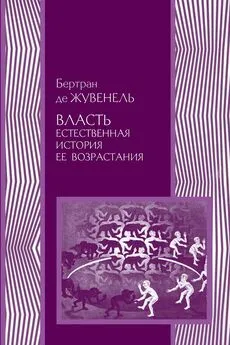

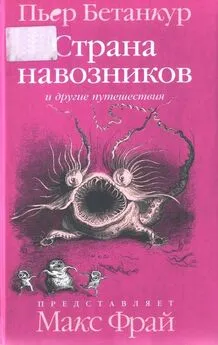



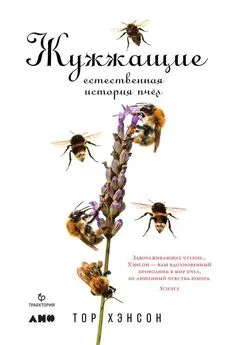
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1095234/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar.webp)