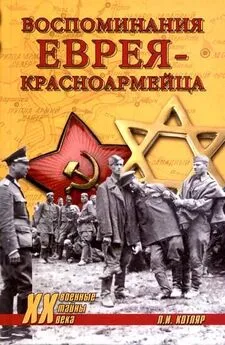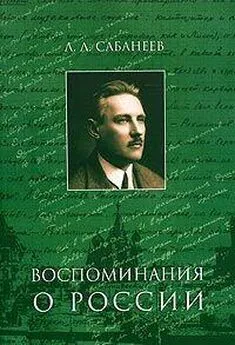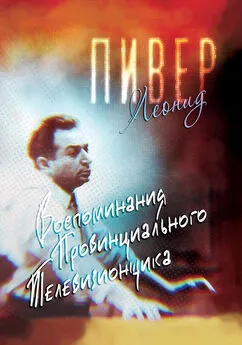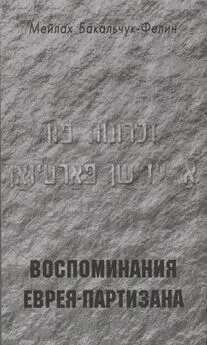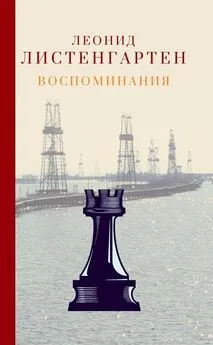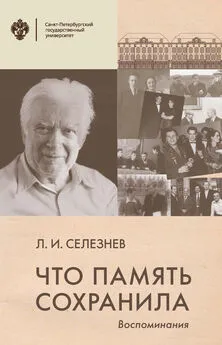Леонид Котляр - Воспоминания еврея-красноармейца
- Название:Воспоминания еврея-красноармейца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- ISBN:978-5-9533-5705-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Котляр - Воспоминания еврея-красноармейца краткое содержание
Книга «Воспоминания еврея-красноармейца» состоит из двух частей. Первая — это, собственно, воспоминания одного из советских военнопленных еврейской национальности. Сам автор, Леонид Исаакович Котляр, озаглавил их «Моя солдатская судьба (Свидетельство суровой эпохи)».
Его судьба сложилась удивительно, почти неправдоподобно. Киевский мальчик девятнадцати лет с ярко выраженной еврейской внешностью в июле 1941 года ушел добровольцем на фронт, а через два месяца попал в плен к фашистам. Он прошел через лагеря для военнопленных, жил на территории оккупированной немцами Украины, был увезен в Германию в качестве остарбайтера, несколько раз подвергался всяческим проверкам и, скрывая на протяжении трех с половиной лет свою национальность, каким-то чудом остался в живых. Этим событиям посвящены первые две главы повести. В третьей — автор описывает то, что пришлось ему пережить до и после Великой Отечественной войны. Его жизнь вместила в себя годы НЭПа; голод 1933–1934 годов; чистку ВКП(б), через которую проходил его отец; сталинский СМЕРШ; захлестнувшую СССР в послевоенные годы волну антисемитизма (о которой, кажется, еще никто толком не написал); «дело врачей»; аварию на Чернобыльской АЭС, рядом с которой он оказался по воле судьбы весной 1986 года…
Вторую часть книги составляет статья известного российского историка П. Поляна об участи попавших в плен евреев-красноармейцев.
Воспоминания еврея-красноармейца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Васылыха повздыхала и даже прослезилась. Кажется, она мне поверила.
В сентябре я познакомился с учительницей школы, открытой немцами в Петровском. Она повела своих первоклассников на прогулку в степь, а мы с Мыколой и коровами оказались у них на пути. Не помню, с чего начался разговор, но учительница, которая была моей ровесницей, предположила во мне человека образованного. Девушка сообщила, что в районе ощущается острый недостаток в учителях и что я мог бы, если б только захотел, сменить должность пастуха на должность учителя (быть может, хуторские мальчишки поделились с ней своими впечатлениями о моих утренних импровизациях в присутствии коров). Я очень уставал от своей работы, коровы снились мне по ночам, но — сблизиться с властью «нового порядка»?.. Я назвал какие-то причины, вынуждавшие меня отклонить столь заманчивое предложение: рваный ватник, отсутствие обуви (мои ботинки к этому времени окончательно развалились)… Но как раз эти препятствия были, по мнению учительницы, легко устранимы. И все-таки она поняла: ей не удастся уговорить меня стать учителем. Меня же смутила ее невозмутимость. Казалось, она не видит ничего предосудительного в том, что «при немцах» стала учительницей. В ее аполитичность я поверить не мог: все-таки получила среднее образование в советской школе, наверняка была комсомолкой… Значит, просто решила приспосабливаться к условиям новой жизни, которые, как она полагала, останутся теперь навсегда. А может быть, решила жить сегодняшним днем, не думая о возможной грядущей ответственности.
На должности пастуха я пробыл до 3 октября, когда пришел приказ отправить двух хуторян на работу в Германию. Хуторское начальство сразу определило кандидатуры «добровольцев»: выбор пал на меня и на Ивана Доронина. Нам надлежало явиться в село Надеждовку для медицинского осмотра и оформления документов. Там же хранились и наши аусвайсы. Кандидатура Жоры, тоже пришлого, отпала автоматически: он использовался немцами как шофер, на хуторе появлялся редко, а партизаны ему так и не повстречались.
В «Великую Германию»
По дороге в Надеждовку (километра четыре через балку) мы с Иваном имели возможность свободно обсудить создавшееся положение. На хуторе у Ивана была жена, и он «не ерзал», хотя и говорил иногда о партизанах, которых нигде не было. В это утро моего Ивана как будто подменили: всю дорогу он придумывал всевозможные варианты побега, хотя вариантов-то, по сути, и не было, ибо негде нам было укрыться в бескрайних николаевских степях. Да и времени для побега оставалась лишь сегодняшняя ночь, потому что завтра на рассвете надеждовские полицаи придут за нами, чтоб сопровождать нас в райцентр, куда будут сгонять со всего района таких, как мы. Предлагая проекты побега и слушая мои возражения, Иван в глубине души, видимо, и сам в их успех не верил. Вывод напрашивался один: пока придется покориться обстоятельствам, а по пути в Германию, быть может, и представится случай сбежать.
Справедливости ради должен заметить, что Иван набрался смелости (или дурости?) заявить в полиции, что отправляется в Германию вовсе не добровольно. Причем полиция, контролируемая немецким гестапо, прекрасно знала, что Иван ушел из лагеря военнопленных обманом, при помощи Мыколы, с которым они появились на хуторе в один и тот же день. Неужели полиция закрывала глаза на подобные вещи, а гестапо ей такое позволяло?.. Впрочем, этими соображениями я с Иваном не поделился. У меня были другие проблемы: предстоял медицинский осмотр, который вполне мог оказаться для меня роковым. Я старался как можно меньше привлекать к своей персоне внимания. И впоследствии Иван не упускал случая упрекнуть меня в том, что «юридически» я в Германию поехал добровольно.
Медицинский осмотр проводил единственный на всю больницу врач — старичок с небольшой с проседью бородкой, всем своим обликом ассоциировавшийся у меня с Терентием Осиповичем Бубликом из пьесы Корнейчука «Платон Кречет». И вот я дожидаюсь под дверью врачебного кабинета, где уже находится Иван и куда должен зайти и я. Собрав все свое мужество и хладнокровие, я внушил себе, что это просто одно из многочисленных посещений врачебного кабинета, ничем мне не грозящих.
В кабинет я вошел уверенный и спокойный. И «земский врач» оказался на высоте. Осматривая меня, раздетого донага, этот интеллигентный человек, казалось, был озабочен лишь единственным вопросом: нет ли у пациента венерических или каких-либо иных заразных болезней, представляющих угрозу для «Великой Германии». Весь его облик ничего не выражал, как бы приглашая тем самым и меня воздержаться от каких бы то ни было эмоций. Ну, какие могут быть эмоции при обычном медицинском осмотре? И мне оставалось только, принимая правила игры, невнятно пробормотать свое «спасибо» и покинуть кабинет.
Через двое суток мы уже были в Вознесенске, а еще через два-три дня — в эшелоне. Мои солдатские ботинки к этому времени окончательно развалились, так что в «Великую Германию» я следовал босиком.
По дороге нас выгрузили в Перемышле, где мы в перевалочном лагере ожидали комплектования эшелона. Там я во второй раз подвергся такому же осмотру, как в Надеждовке, когда нас подвергли санитарной обработке в бане. После мытья нас, голых, загнали в просторное помещение, за железный барьер, по ту сторону которого сидел на возвышении врач в белом халате и резиновых перчатках. Он осматривал подходивших к нему по одному через узкий проем в барьере. Толпа голых людей быстро таяла. А я все не решался приблизиться к проему. Что если этот врач пожелает задать мне нескромный вопрос? На этот случай у меня все-таки заготовлено было объяснение. Я помнил, что у нас во дворе жил Вовка Осичной, сын дворника, украинец, подвергшийся в раннем детстве операции обрезания по чисто медицинским показаниям в связи с образовавшимся у него загноением. Вовку дразнили иногда жидом и обрезанным. Сочиняя себе биографию, я решил использовать этот сюжет в самой безвыходной ситуации. Слава Богу, не пришлось. Врача в резиновых перчатках также интересовала лишь кожно-венерологическая сторона вопроса, расовонациональная сторона дела его не занимала.
В Перемышле Иван все же склонил меня к побегу. И случай вроде бы представился…
Побег
Несколько дней мы ожидали формирования эшелона. Делать нам в лагере было абсолютно нечего, и мы с Иваном целыми днями лежали на траве, греясь на все еще ласковом октябрьском солнышке. Глаза и мозг Ивана напряженно искали хоть малейшую возможность сбежать. Я же считал эту затею бессмысленной, не понимал, что в таких обстоятельствах можно придумать.
Но Иван все-таки придумал. Он обратил внимание на маячившую у старых деревянных ворот в белой кирпичной ограде фигуру охранника. Ворота эти никогда не открывались, для чего же тогда охранник? Поверху была натянута в несколько рядов колючая проволока, надписи предупреждали, что она под током. Иван предположил, что солдат охраняет щель под воротами, утонувшую в глухом высоком бурьяне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: