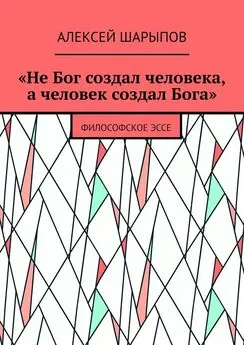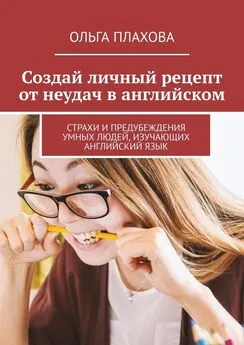Дерек Бикертон - Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей
- Название:Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Языки славянских культур»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0522-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дерек Бикертон - Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей краткое содержание
Дерек Бикертон — всемирно известный ученый, прославившийся изучением пиджинов и креольских языков, почетный профессор Гавайского университета. Его открытие, что креольские языки могут создаваться детьми из неструктурированного инпута в течение одного поколения, привело Бикертона к вопросу, откуда исходно берется язык.
Книга «Язык Адама» (2009) — это междисциплинарное исследование предпосылок возникновения языка. Она ставит этот вопрос в рамках новой эволюционной теории — теории «возникновения ниш», предполагающей активность животных в построении ниш: животные их формируют и сами формируются, адаптируясь к ним. На этой основе строятся гипотезы, почему и как могла возникнуть потребность в языке, каков был первый шаг от коммуникативных систем животных к «языку Адама».
Книга адресована лингвистам, психологам, специалистам в области когнитивных наук и тем читателям, кому интересны вопросы происхождения разумного поведения и языка.
Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако то, к чему привязаны элементы СКЖ, — это не просто любая характерная ситуация. Это именно ситуация, которая существует прямо сейчас, в тот самый момент, когда о ней сигнализирует крик, или вспышка, или жест. Ни одно животное не может использовать крик о приближении хищника, чтобы напомнить своим товарищам, как хищник приближался к ним вчера, или о том хищнике, что всегда околачивается у водопоя. Нет никакого шанса предупредить заранее, невозможно напомнить о том, что было не так в прошлый раз. Каждое использование элемента СКЖ привязано к тому, что происходит непосредственно в данном месте в данный момент. Слова же, напротив, очень редко используются для описания того, что прямо сейчас находится перед нами. Мы и так все можем видеть, так какой смысл это комментировать? Правда, у нас есть и язык жестов, чтобы, например, показывать, насколько далеко мы готовы заходить в конфронтации или насколько велико наше сексуальное желание. Старый добрый язык тела служит нам не хуже, чем любым другим животным, и иногда стоит тысячи слов. С другой стороны, при помощи слов мы можем выходить за пределы ситуации «здесь-и-сейчас». Мы можем обмениваться мнениями о вещах, бесконечно удаленных в пространстве и времени, о том, чего мы никогда не видели, и даже о том, чего вообще может не существовать, — об ангелах и демонах, например. Поэтому коммуникация каким-то образом должна быть отделена от того, что происходит прямо сейчас.
И, наконец, свобода от приспособленности. Мы видели, что функцией элементов СКЖ является увеличение приспособленности. Ни один элемент не существует, если он так или иначе не увеличивает приспособленность. Некоторые предполагают, что язык в целом увеличивает приспособленность. Могло быть и так, что на определенной стадии эволюции наши предки, у которых языковая способность была развита лучше, оставили после себя больше потомства, чем те, у кого эти навыки были менее развиты. Но несмотря на то, что это предположение вполне разумно, ему нет никаких доказательств, да и в любом случае это совершенно другая тема. Дело в том, что никакие сигналы СКЖ не возникают в ситуации, если она непосредственно не связана с приспособленностью. А о словах и знаках этого отнюдь нельзя утверждать. Они могут относиться к чему угодно, связанному ли с приспособленностью или нет. Если оставить в стороне одно-два исключения, например крики «Пожар!» или «На помощь!», слово само собой, само по себе никак не может менять приспособленность. А эти исключения, если разобраться, гораздо больше похожи на сигналы СКЖ, чем на слова языка: они привязаны к ситуации точно так же, как и элементы СКЖ. Если вы сомневаетесь, попробуйте крикнуть «Пожар!» в переполненном театре, или спросите у себя, одинаков ли смысл слова «гореть» в крике «На помощь! Горим!» и в предложении «Нет ничего прекраснее, чем сидеть у горящего очага зимним вечером».
Давайте проведем еще один мысленный эксперимент. Когда-то давно должно было быть время, когда появилась первая система, сломавшая шаблон СКЖ, — назовем ее первым протоязыком. В нем было десять единиц или даже меньше. Итак, представьте себе десяток слов или знаков, которые по отдельности или в сочетаниях увеличивали бы шансы на выживание и/или воспроизводство тех, кто их использует.
Здесь, конечно, есть некоторые ограничения. Нет смысла говорить то, что может быть не хуже передано без слов. Выражения вроде «Я такой горячий!» или «Смотри, какой большой!» бесполезны, потому что невербальными средствами это можно передать намного выразительнее. Далее, первые слова должны выглядеть как первые слова, они не могут быть абстрактными. Они должны обозначать вещи, на которые легко можно указать, изобразить, и так далее. И, наконец, значение, которое они содержат, не может зависеть от того, как они скомпонованы; большинство исследователей согласны в том, что слова появились до синтаксиса. Поэтому пока разрешается собирать слова в предложение любым образом, его окончательное значение не может зависеть от порядка слов.
Призов за правильный ответ не будет, уж простите. Если бы я разыгрывал призы, то брал бы с вас клятву, что вы еще не читали пятую главу, и должен был бы вам поверить.
Почему этот мысленный эксперимент настолько важен? Почему «десять слов или меньше»? Почему не двадцать, не тридцать, не сто? Я имею в виду, оставьте язык в покое, ну как можно пользоваться десятью словами или даже меньше?
Идея в том, что если эти первые несколько слов не приносили бы немедленной и ощутимой пользы, которой нельзя было бы достичь более простыми средствами, язык никогда не вышел бы за пределы десятка слов, и даже они не могли бы появиться. Эволюция не предусмотрительна. Она не рассуждает так: хорошо, если мы изощримся и придумаем, скажем, пятьдесят или сто слов, вот какие классные штуки мы сможем с ними вытворять. На самом деле, я еще расщедрился, сказав «десяток». С самого первого слова язык должен обладать некоторой приспособительной способностью, обеспечивать некоторое преимущество. Если он этого не делает, тогда никто и не будет напрягаться и изобретать новые слова.
Итак, миссия единым махом приобрести свободу от приспособленности, свободу от ситуации и свободу от «здесь-и-сейчас» представляется невыполнимой и не имеющей аналогов в истории длиною в три миллиарда лет — с тех пор, как самые примитивные формы жизни появились на нашей планете.
Вдумайтесь в это. Подумайте обо всех миллионах существ, живших в этот период. Все им вполне хватало обычных СКЖ. Все, что им было нужно, они могли решить с их помощью. А в самих СКЖ не было ничего, что можно назвать развитием.
Вы можете решить, что если шимпанзе более сложно устроены, чем собаки, а собаки — более сложно, чем сверчки, то, следовательно, у шимпанзе будет более сложная СКЖ, чем у собак, а у собак — более сложная, чем у сверчков. Да, действительно, между сложностью вида и количеством элементов в его СКЖ есть некоторая — весьма небольшая — корреляция. У рыб больше сигналов, чем у насекомых, у млекопитающих — больше, чем у рыб, а у приматов — больше, чем у всех других животных. Но это в среднем: диапазоны могут перекрываться, а сами системы по отношению к любым средствам, которые они используют, изначально одинаковы. У всех одни и те же ограничения: все состоят их отдельных, не связанных между собой сигналов, которые не могут соединяться друг с другом для создания более сложных сообщений, не могут быть использованы вне определенных ситуаций, не могут ничего, кроме реакции на некоторый аспект ситуации здесь-и-сейчас.
Если все остальные виды, помимо нашего, обходятся такими системами, этому может быть только одно объяснение. Ключевой момент в том, что другие животные не используют язык, потому что им не нужен язык.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
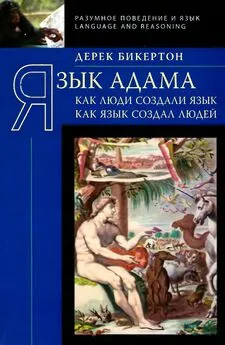
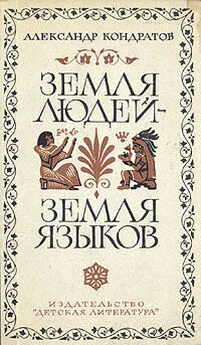
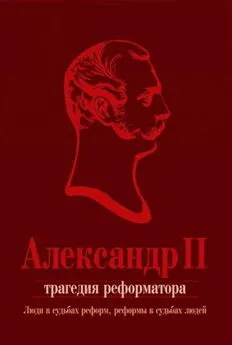
![Пол Андерсон - Война крылатых людей [Война крылатых людей. Сатанинские игры. Звездный торговец. Люди ветра. Право первородства. Повелитель тысячи солнц.]](/books/600193/pol-anderson-vojna-krylatyh-lyudej-vojna-krylatyh.webp)