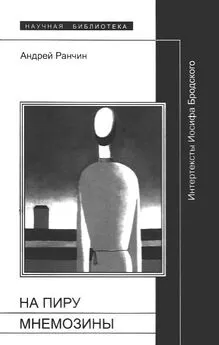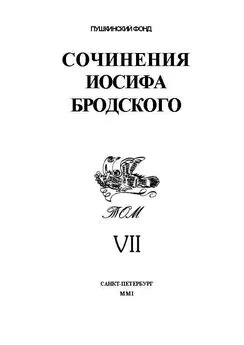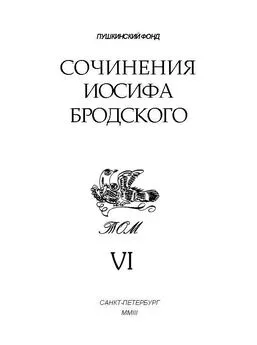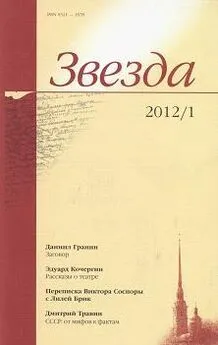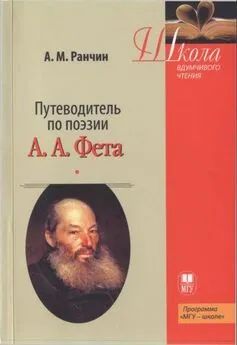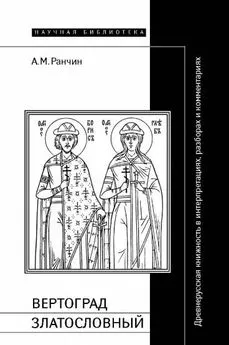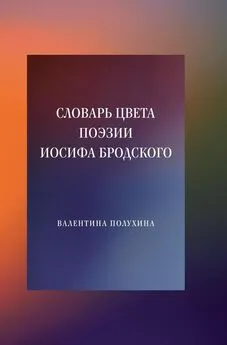Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского
- Название:«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-150-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского краткое содержание
Книга посвящена анализу интертекстуальных связей стихотворений Иосифа Бродского с европейской философией и русской поэзией. Рассматривается соотнесенность инвариантных мотивов творчества Бродского с идеями Платона и экзистенциалистов, прослеживается преемственность его поэтики по отношению к сочинениям А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова.
«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Оппозиция «Я — Время (мертвящее, обезличивающее, инородное по отношению к личности)» в поэзии Бродского неоднократно облекается в образы, заимствованные у Маяковского. Так, стихи Бродского:
я, иначе — никто, всечеловек, один
из, подсохший мазок в одной из живых картин,
которые пишет время, макая кисть
за неимением, верно, лучшей палитры в жисть… —
восходят к строкам, завершающим стихотворение Маяковского «Я»:
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!
А строки из «Разговора с небожителем» (1970):
Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так наглотался варева минут
и римских литер… —
вариация стихов «На тарелках зализанных зал / будем жрать тебя, мясо, век!» (II; 441) из трагедии «Владимир Маяковский».
Религиозная тема Бродского [663]во многом обнаруживает переклички с поэзией Маяковского. Богоборческие (или, точнее, «кощунственные») мотивы, заставляющие вспомнить поэмы «Облако в штанах» и «Человек», прослеживаются у Бродского в «Разговоре с небожителем», в котором от Маяковского — и раскованная интонация беседы с Богом или ангелом, и заглавие (ср. «Разговор с фининспектором о поэзии»). Но небожитель не отвечает герою Бродского: в мире царит «тишь». Этот мотив беззвучия, глухоты бытия перекликается с концовкой поэмы Маяковского «Облако в штанах»:
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
Вариация этих строк Маяковского — «глухонемая вселенная» в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» (1989) [664]и метафора «ушная раковина Бога» в «Литовском дивертисменте» (1971):
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
— Прости меня.
Эта же поэтическая формула повторена в «Римских элегиях» («Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то <���…>», 1981 (?) [III; 48]). Но для Маяковского, конечно, невозможен в разговоре с Богом переход с крика на шепот. Как невозможна и просьба о прощении.
«Количество <���…> религиозных кусков в первом томе поразительно», — заметил о раннем Маяковском Виктор Шкловский [665]. Прежде всего, это символы Рождества и Распятия поэта. Сближение Маяковского с Бродским — автором рождественских стихов — может показаться более чем сомнительным, так как Бродский, в отличие от автора фрагмента «Рождество Маяковского» из поэмы «Человек», пишет о Рождестве Христа, а не о своем рождении. Однако в одном из рождественских стихотворений Бродского «24 декабря 1971 года» — вместо Младенца и девы — пустота, в которой возникает «фигура в платке» ([II; 282] любимая?; ср. антиномию «Бог» — «любимая» у Маяковского). А в стихотворении 1964 г. «Звезда блестит, но ты далека…», обращенном к возлюбленной, Бродский прямо сближает себя — не без доли иронии — с «младенцем в хлеву» (I; 326). (Вспомним рисунок Бродского того же времени, на котором поэт изображает себя лежащим в окружении овцы, козы и коровы [I; 477, илл. VII]).
Но если в рождественских мотивах у Бродского перекличка с Маяковским минимальна, то одна из граней «маяковского» образа распинаемого поэта в лирике Бродского очень заметна. Распятие лирического героя у Маяковского символизировало страдания поэта за грехи людей и ощущение творчества как самораспинания (этого мотива у автора «Части речи» нет). Оно означало и конец поэзии, смерть последнего поэта («я, // быть может, последний поэт» — «Владимир Маяковский. Трагедия» [II; 436]; ср.: «Только вот / поэтов, / к сожалению, нету — // впрочем, может, / это и не нужно» — «Юбилейное» [I; 223]). Мотив последнего поэта [666]как невинной жертвы, принимающей казнь именно за поэтический дар, — ключевой и для Бродского («Конец прекрасной эпохи», 1969).
Отмечен ассоциациями с поэзией Маяковского и такой инвариантный образ Бродского, как рыба / моллюск. Претекст — строки «На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ» (I; 46) из стихотворения «А вы могли бы?» — одного из программных текстов раннего Маяковского и русского футуризма в целом. Эти строки — провозглашение веры в преображающую силу слова, способного превратить жестяную вывеску рыбной лавки в живое, зовущее существо. Поэтика оксюморона здесь предельно интенсифицирована: задана и тут же отброшена не только оппозиция «живое — мертвое» (жестяная вывеска — живая рыба), но и оппозиция «немое (рыба) — говорящая» («новая» рыба, сотворенная или открытая героем стихотворения). «Преображение привычных образов тождественно их творению заново. Как в Книге Бытия, где вслед за созданием „безвидной“ планеты, ее устроение начинается с воды и появления морей, у Маяковского космогонический акт означен тем, что „на карте будня“ (географическая карта, она же — ресторанное меню) библейский хаос — „студень“ претворяется в океаны, к тому же демиургическому тексту отсылают изображенные на вывеске „рыбы“, которые, согласно Библии, были сотворены в числе первых живых существ. Новорожденный мир тянется к своему создателю „зовом новых губ“, изливаясь неслыханной гармонией сфер, ночной апокалиптической музыкой „водосточных труб“ <���…>. В контурах скул и губ проступает лицо Вселенной» (М. Вайскопф) [667].
Стихи Маяковского многозначны, возможно их прочтение не как радостного свидетельства всевластия слова, но как выражения тоски одиночества. Именно так их воспринял Андрей Платонов: «Всякий человек желает увидеть настоящий океан, желает, чтобы его звали любимые уста, и прочее, но необходимо, чтобы это происходило в действительности. И только в великой тоске, будучи лишенным не только океана и любимых уст, но и других, более необходимых вещей, можно заменить океан — для себя и читателей — видом дрожащего ступня, а на чешуе жестяной рыбы прочесть „зовы новых губ“ (может быть, здесь поэт имел в виду и не женские губы, но тогда дело обстоит еще печальнее: губы зовущих людей, разгаданные в жести, подчеркивают одиночество персонажа стихотворения). И поэт возмещает отсутствие реальной возможности видеть мир океана своим воображением. При этом воображение поэта столь мощно, что он приобретает способность видеть сам и показывать читателям океан и зовущие губы посредством самых „неподходящих“ предметов — студня и жести» [668].
У Бродского же, хотя и встречается оксюморонный образ говорящей или поющей рыбы («Колыбельная Трескового мыса», 1975; «Тритон», 1994), невозможно найти мотив преображения вещи словом. Наоборот, живое подобно вещи, неживому: «Здесь никто не крикнет, что ты чужой, / убирайся назад, и за постой берут / высцветаньем зрачка, ржавою чешуей»; «Одеяло серого цвета, и сам ты стар» — мотив старения, ассоциирующийся с серым, жестяным цветом («Прилив», 1981 [III; 34]); «рыба, подумав про / свое консервное серебро, // уплывает заранее» («Келломяки», 1982 [III; 62]); «У щуки уже сейчас / чешуя цвета консервной банки, / цвета вилки в руке» («Элегия» («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу…»), 1982 (?) [III; 68]). Речь «моллюска» не может быть услышана:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: