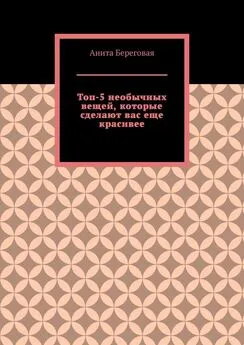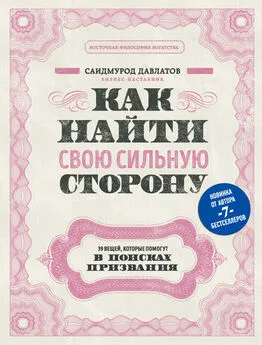Майкл Брукс - Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла
- Название:Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ломоносовъ
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91678-100-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Брукс - Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла краткое содержание
Нам доступны лишь 4 процента Вселенной — а где остальные 96? Постоянны ли великие постоянные, а если постоянны, то почему они не постоянны? Что за чертовщина творится с жизнью на Марсе? Свобода воли — вещь, конечно, хорошая, правда, беспокоит один вопрос: эта самая «воля» — она чья? И так далее…
Майкл Брукс не издевается над здравым смыслом, он лишь доводит этот «здравый смысл» до той грани, где самое интересное как раз и начинается. Великолепная книга, в которой поиск научной истины сближается с авантюризмом, а история научных авантюр оборачивается прогрессом самой науки. Не случайно один из критиков назвал Майкла Брукса «Индианой Джонсом в лабораторном халате».
Майкл Брукс — британский ученый, писатель и научный журналист, блистательный популяризатор науки, консультант журнала «Нью сайентист».
Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приятно оперировать в уме такими цифрами, живя в эпоху, когда людям известна скорость света. Хотя на самом деле важно лишь помнить, что он распространяется по Вселенной не мгновенно. Мы привыкли считать это знание самоочевидным, но думать так опрометчиво: оно досталось нелегкой ценой.
В 1676 году астроном Оле Кристенсен Рёмер, изучив орбиту Ио, самого близкого к планете спутника Юпитера, сделал точнейший прогноз. Девятого ноября Ио выйдет из тени Юпитера в пять часов тридцать семь минут пополудни — и это станет решающим доказательством, что скорость света конечна. Директор Парижской обсерватории Джованни Доменико Кассини пренебрег идеей ученика. Сам он был убежден в мгновенном распространении света, оттого предсказал, что Ио появится на десять минут раньше.
Затмение Ио закончилось в 17:37:49. Тут же Кассини объявил сей факт совпадающим с его вычислениями. Хотя прежние ошибочные слова были произнесены в академическом собрании, ни один ученый не стал возражать, все поддержали именитого коллегу. Рёмер ждал признания своей правоты больше тридцати лет, но так и не дождался: астрономы приняли истину лишь после смерти Кассини, на два года пережившего оппонента.
В 1969 году его собрат по профессии Дж. Дональд Ферни поделился саркастическим наблюдением, вспомнив на сей раз астрономическую ошибку начала века, исправленную спустя десятилетия: «Полное научное описание стадного инстинкта астрономов еще ждет своего часа… Нередко мы уподобляемся антилопам, когда те, сбившись в кучу, мчатся не глядя по саванне неведомо куда. Потом одновременно разворачиваются по сигналу вожака — и так же решительно несутся всем скопом в обратном направлении».
Наблюдение Ферни могло бы потешить душу Оле Рёмера, если б двое ученых не разминулись на триста с лишним лет, но сейчас вот что важно: это и есть точное описание рабочего механизма науки. Подобно свету, преодолевающему космическое пространство с конечной скоростью, наука встречает на своем пути куда больше препятствий — не только вещественных, но и незримых, — чем вы, возможно, привыкли думать. К счастью, нет таких фундаментальных законов, которые могли бы ограничить скорость распространения научных знаний. Здесь всему виной человеческий фактор.
Проявиться он может по-разному. Иногда люди просто не умеют осознать непривычное. До того как Вильгельм Рентген открыл гамма-лучи, с ними успел столкнуться по меньшей мере еще один исследователь, но не отметил ничего особенного в своих наблюдениях. А бывает, против радикально новых идей и понятий восстает подсознательный «коленный рефлекс» здравого рассудка. Когда Рентген объявил об этом открытии, Уильям Томсон, он же лорд Кельвин, назвал его излучение плутовской выдумкой. И лишь затем, познакомившись воочию с результатами экспериментов, взял свои слова назад.
Если же и люди не помешают, обстоятельства могут сделать это за них. В 1905 году ученых не слишком волновало устройство Вселенной. В начале того века западный мир бурно развивал промышленность и сельское хозяйство, основные усилия исследователей сосредоточились в этих сферах. И когда скромный эксперт швейцарского патентного бюро создал потрясающую теорию, объяснившую природу пространства и времени, что называется, в одном (правда, очень большом) флаконе, на нее никто не обратил внимания. Собственно, даже получить достойную работу теория относительности Альберту Эйнштейну не помогла. Пытаясь добиться места на научной кафедре, он приложил к резюме свои опубликованные труды по физике, но собеседования так и не дождался. Вот уж нелепость из нелепостей: та самая световая константа в статьях, перевернувших наши взгляды на Вселенную, оказалась бессильна ускорить «развод» Эйнштейна с бернской чиновничьей конторой.
Порой ученым препятствуют их собственные страхи перед неизвестным. Задолго до Эйнштейна к его главному открытию вплотную приблизился Анри Пуанкаре. У специальной теории относительности даже имелась уже надежная экспериментальная база — опыты по интерферометрии, проделанные в 1887 году Альбертом Майкельсоном и Эдвардом Морли. К несчастью, Пуанкаре забросил работу, едва только осознал ее последствия для традиционных взглядов на пространство и время: оказывается, последнее способно то замедлять, то ускорять свой бег в зависимости от характера движения материальных тел во Вселенной. С этим отказался смириться ум выдающегося математика.
А уж если остановить прогресс науки вообще ничто не в силах, тогда неизменно начинают распространяться домыслы, якобы в мире не осталось больше ничего нового для открывателей. Классический пример дал тот же Альберт Майкельсон за десятилетие до эйнштейновского прорыва. «Все важнейшие фундаментальные законы и реалии физики уже установлены, — писал он в 1894 году, — и ныне утвердились столь прочно, что вероятность вытеснения их какими-либо новациями представляется чрезвычайно слабой». Шестью годами ранее Саймон Ньюкомб заявил: «В астрономии мы, очевидно, близки к пределам знания».
Но не подумайте, будто подобные опыты шапкозакидательства остались в прошлом. В 1996 году научно-популярный писатель Джон Хорган выпустил книгу под названием «Конец науки». Там утверждалось, что наука, в сущности, изжила себя. Мы близки к завершению генеральной физической теории, да еще в биологии кое-что пока не получило объяснения. Всё остальное — скупые точки, которые следует расставить над «i». Отныне и присно наука становится нудной рутиной, сводясь к дополнению законченной картины мира мелкими деталями.
Книга Хоргана вызвала показательное раздражение среди ученых. Стивен Хокинг обозвал ее мусорной, Стивен Джей Гулд — идиотской. В виде косвенной ссылки она затесалась даже в нобелевскую лекцию: принимая в тот год премию по физике, Дэвид Ли отметил, что слухи о смерти науки «сильно преувеличены». Тем не менее книга оказалась по-своему влиятельной, причем на долгий срок. Три года спустя другой нобелевский лауреат, Фил Андерсон, придумал словечко «хорганизм» для унылого неверия в будущность науки.
С Джоном Хорганом мы впервые встретились в Кембриджском университете летом 2005 года, а с тех пор успели познакомиться ближе. Я к нему испытываю огромное уважение, но все же думаю, он был не прав. Да, стараниями Оле Рёмера мы получили световую константу, и после него, благодаря постоянному прогрессу науки, еще массу информации о механизмах Вселенной. Но узнать предстоит куда как многое — и эти дела отнюдь не обещают превратиться в нудную рутину.
Покинув брюссельский отель «Метрополь», я изучал лишь тринадцать из всех аномалий, известных современной науке. Некоторые из них, так сказать, более аномальны, чем другие, но ни одна не может обойтись без дальнейших исследований и объяснений. Одни требуют серьезного отношения воленс-ноленс; к другим, возможно, энтузиасты относятся чересчур трепетно. Астроном Саймон Уайт, в частности, предполагает, что усилия его коллег познать тайну темной энергии, скорее всего, чрезмерны по сравнению с реальной ценностью этого знания. Порой научная аномалия ставит нас перед неприятными и совершенно нежелательными фактами — таково, например, заблуждение насчет свободы воли. Но при всем разнообразии волнующих или пугающих моментов, каждый такой случай предоставляет великолепную возможность для исследований и открытий. Те, в свою очередь, как было с радиоактивностью или квантовой теорией, помогут в разгадке аномалий, которые пока остаются неизвестными ученым. Как высказался однажды Джордж Бернард Шоу, наука не может решить ни одну проблему, не создав при этом десяток новых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
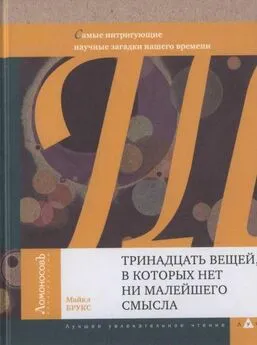
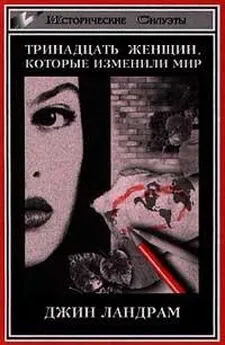
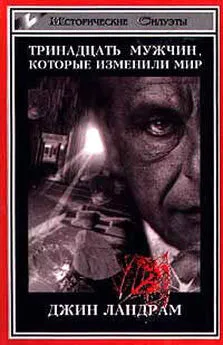
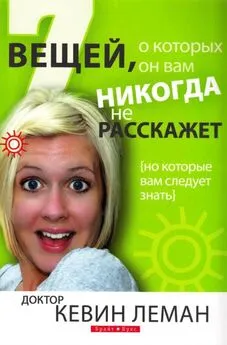
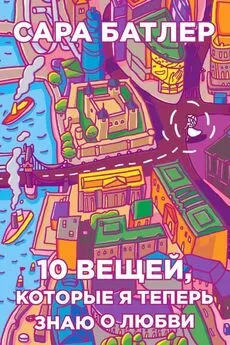
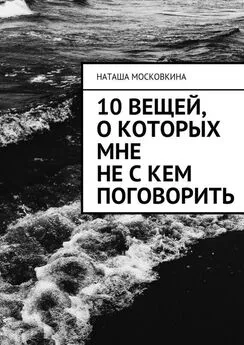
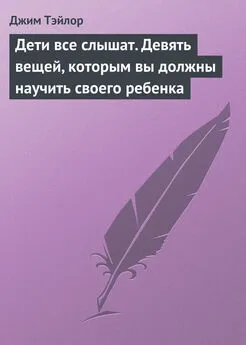
![Саидмурод Давлатов - Как найти свою сильную сторону [39 вещей, которые помогут в поисках призвания] [litres]](/books/1060432/saidmurod-davlatov-kak-najti-svoyu-silnuyu-storonu.webp)