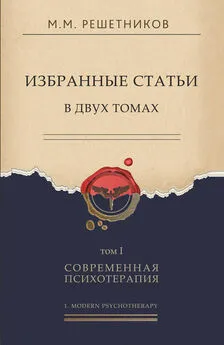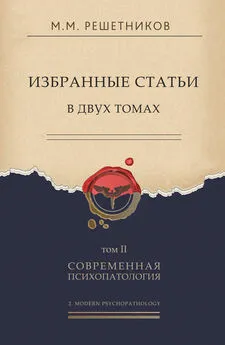Михаил Гаспаров - Избранные статьи
- Название:Избранные статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-003-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гаспаров - Избранные статьи краткое содержание
В книге представлены избранные статьи Михаила Леоновича Гаспарова.
В этом сборнике три раздела. В первый, «О стихе», включено несколько статей о предметах, мало разработанных в нашем стиховедении, или о предметах, выходящих за пределы стиховедения в общую поэтику и лингвистику. Второй раздел, «О стихах», — это прежде всего упражнения по монографическому анализу отдельных стихотворений; жанр, модный в недавнее время. Третий раздел, «О поэтах», — это, за исключением первой заметки, статьи, писавшиеся как предисловия к изданиям стихов русских и латинских писателей.
Статьи, вошедшие в этот сборник, писались на протяжении 25 лет. Здесь они помещены почти без переработки: только в двух сделаны небольшие дополнения.
Избранные статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот образ доброго поэта-обывателя — новый в латинской литературе (зачатки его можно найти у Катулла, но между пылкостью зачинателя Катулла и благодушием завершителя Овидия — огромное расстояние). Однако он не вытеснил у Овидия традиционный образ вдохновенного поэта-пророка: они сосуществуют. Когда Овидий пишет очередную элегию о невзгодах ссылки, привычно прося прощения у друзей за небрежность формы и унылость содержания (С. III, 14, V, I, 7, 12; П. I, 5, III, 9, IV, 2), то он всячески подчеркивает, что пишет лишь для себя, чтобы успокоить душу (С. V, 1, 63–64), а посылает написанное в Рим лишь из дружбы и для пользы своей судьбе, а вовсе не для славы (С. III, 9, 55–56). Когда же он готовится к смерти и задумывается над своей посмертной долею (С. III, 3) или обращается к молодому поэту и убеждает его быть верным своему призванию, не пугаясь его, Овидия, судьбы (С. III, 7), или запевает хвалу победам Августа и Германика (П. II, 1, III, 4 и др.), то он радостно возвращается к высоким мыслям о том, что в человеке бессмертны лишь дух и дар (III, 7, 43–44) и что стихи его будут памятником ему во все века, пока Рим владеет миром. Так двоится в сознании Овидия образ поэта: так самая близкая ему тема, включаясь в игру, тоже оборачивается в стихах не лицом, а маской, и даже двумя.
Тема поэзии объединяет для Овидия его прошлое, настоящее и будущее: поэзия — это лучшее, что знал он в прожитой жизни, это опора ему в нынешних страданиях, это залог его доброго имени в потомстве. Именно в поэзий полнее всего и вернее всего запечатлевается поэт: «Муза — непогрешимый свидетель всех моих несчастий» (П. III, 9, 49–50), «я сам — содержание моих стихов» (С. V, 1, 10). Это звучит почти по-современному, как программа самовыражения личности, и все-таки это нечто иное: для поэта нового времени стихи служат комментарием к его личности, для античного поэта его личность служит комментарием к стихам. Главная цель поэзии Овидия — упорядочить хаос мира вокруг себя и хаос чувств внутри себя; это он делает, намечая такие-то тематические линии и связывая их между собой таким-то образом; а почему именно такие и именно так, тому служат объяснением обстоятельства его жизни, о которых он и уведомляет читателя.
Так складываются у Овидия основные черты его нового жанра — скорбной элегии: тема одиночества как исходная и основная, темы невзгод, дружбы и надежды как три оси ее развития, тема поэзии как завершение, обобщение и замыкание на себя. Каждая тема членится на мотивы, каждый мотив стремится стать условным знаком всей темы. Наборы таких мотивов в различных сочетаниях и в поворотах с различных точек зрения образуют художественную структуру элегий.
Но кроме структурных элементов, без которых произведение перестает существовать, в нем должны быть и орнаментальные элементы, каждый из которых может быть или может не быть, но совокупность которых необходима. Она необходима для того, чтобы связать новое произведение или новый тип произведений с прежним художественным и жизненным опытом читателей, чтобы напомнить им, что и страдание, и дружба, и милосердие, о которых говорится в новых стихах, — не выдумки поэта, а чувства и явления, хорошо знакомые миру вообще и искусству в частности. В структурных мотивах тема развертывается по законам логики, в орнаментальных — по законам аналогии: иными словами, это прежде всего сравнения, параллели нового с общеизвестным. Античность знала два основных фонда таких сравнений — из мира природы и из мира мифологии. В обоих этих поэтических запасниках Овидий чувствует себя полным хозяином.
Сравнения из области природы и быта Овидий употребляет реже: они безэмоциональны, они помогают понять, но не почувствовать то, что хочет сказать поэт. Чаще всего они появляются при наименее привычной из овидиевских тем — теме одинокого страдания. Как солнце точит снег, море — камни, ржавчина — железо, червь — дерево, так изгнание точит душу (П. I, 1); время приучает быков к ярму и коней к узде, тупит плуг, стирает кремень, но не может заглушить тоску (С. IV, 6); и, как погибает поле без вспашки, конь без проездки, лодка на берегу, так погибает среди варваров поэт (С. V, 12). Но и остальные темы могут дать повод для подобных сравнений: дружба между поэтом и его адресатом крепка потому, что оба они преданы Музам, как работник земледельцу, гребец кормчему, воин полководцу (П. II, 5); милосердие Августа подобно милосердию благородного льва среди низких хищников (С. III, 5); а поэзия утешает ссыльного так же, как песня помогает в труде землекопу, бурлаку, гребцу, пастуху или пряхе (С. IV, I). Кроме того, есть два самых постоянных повода для набора сравнений из мира природы — «от несчетности» и «от невозможности»: так, невзгоды поэта несчетны, словно песок на берегу, рыбы в море, звери в лесах, колосья на ниве, зерна в маке, травы на Марсовом поле, пчелы в медоносной Гибле и т. д. (С. IV, 1, V, 1, 2, 6; П. II, 4, 7 и др.); так, поверить в измену дружбе столь же невозможно, как здравому уму поверить в химер, кентавров и гарпий, как северу потеплеть, а югу похолодеть, как Понту лишиться полыни, а медоносной Гибле — тимьяна, морю — рыб, а воздуху — птиц и т. д. (С. IV, 7, V, 13; П. I, 6, II, 4 и др.).
Сравнения из области мифологии у Овидия неизмеримо, многочисленнее. Они привлекательны для него тем, что это, так сказать, уже не сырье, а полуфабрикат, они входят не просто в сознание, а в эстетическое сознание читателя, они не только несут понимание, но и возбуждают сочувствие и, что всего важнее, ощущаются как красота. Мы уже видели, как в элегии С. III, 10 о гетской земле Овидий искусно отметил кульминационные точки мифом о Леандре и мифом об Аконтии. Сама судьба, занесшая его в это изгнание, роднит его с такими изгнанниками, как Кадм, Тидей, Патрокл и Тевкр (П. I, 3); пережитые им невзгоды, каждую в отдельности, изведали и Ясон, и Улисс, и даже Вакх (С. I, 5, V, 3; П. I, 4); страдания его вечно обновляются, как печень Тития, а он не может ни окаменеть, как Ниоба, ни одеревенеть, как Гелиады (П. I, 2). Верность друзей в беде напоминает ему о Тесее и Пирифое, Ахилле и Патрокле, Нисе и Евриале и, уж конечно, об Оресте и Пиладе, страдавших от таких же варваров в недалекой Тавриде (С. I, 5, IV, 4, V, 4, 6; П. II, 3, 6, III, 2 и др.); верность жены — о Пенелопе, Андромахе, Лаодамии, Алкестиде, Евадне (С. I, 6, V, 5, 14; П. III, 1 и др.). От покаравшего его Августа поэт ждет такого же милосердия, какое оказал Ахилл Телефу, ранив и исцелив его тем же копьем (С. V, 2), ибо милосердие — удел высоких душ, а свидетельство тому — отношение Ахилла к Приаму, Александра к Пору и Дарию, Юноны к обожествленному Геркулесу (С. III, 5). И, наоборот, злоба и жестокость тотчас находят олицетворение в именах Бусирида, Фаларида, Антифата, Полифема (С. III, 11, П. II, 2). Стихи, которыми в ссылке утешается поэт, подобны тем стонам, в которых изливали страдания Филоктет и Приам, Альциона и Прокна (С. V, 1), и они помогают в горе, как лира помогала Ахиллу и Орфею (С. IV, 1). Это лишь самые частые из бесчисленного запаса мифологических параллелей, без которых у Овидия не обходится ни одна тема и почти ни одно стихотворение. Современному человеку это обилие мифологии может показаться расхолаживающим, но для античного поэта это был вернейший способ найти общий язык со своим читателем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: