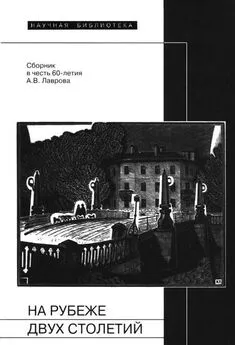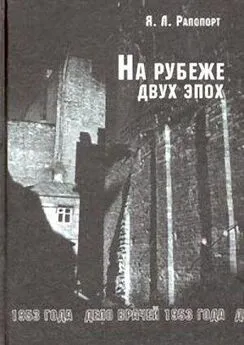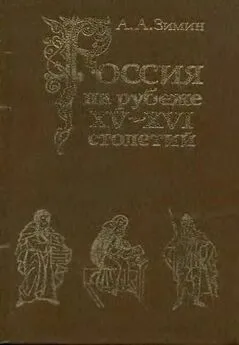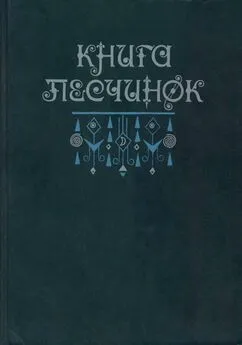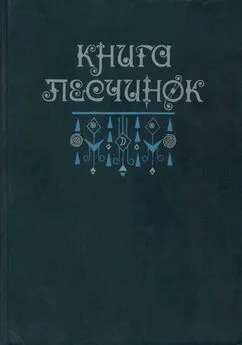Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
- Название:На рубеже двух столетий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-657-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Всеволод Багно - На рубеже двух столетий краткое содержание
Сборник статей посвящен 60-летию Александра Васильевича Лаврова, ведущего отечественного специалиста по русской литературе рубежа XIX–XX веков, публикатора, комментатора и исследователя произведений Андрея Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, М. А. Кузмина, Иванова-Разумника, а также многих других писателей, поэтов и литераторов Серебряного века. В юбилейном приношении участвуют виднейшие отечественные и зарубежные филологи — друзья и коллеги А. В. Лаврова по интересу к эпохе рубежа столетий и к архивным разысканиям, сотрудники Пушкинского дома, где А. В. Лавров работает более 35 лет. Завершает книгу библиография работ юбиляра, насчитывающая более 400 единиц.
На рубеже двух столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От Нилендера попала в лосевское собрание и книга Бориса Пастернака «Второе рождение» (М., 1932). На развороте форзаца дарственная надпись: «Владимиру Оттоновичу Нилендеру на добрую память от всего сердца Б. Пастернак. 19.IX.<19>32» (опечатки в книге исправлены карандашом, вероятно, Нилендером). А о дружеских отношениях студенческой поры самого Лосева и Б. Л. Пастернака косвенно свидетельствует вроде бы очень далекая от поэзии Серебряного века книга — 5-е издание учебника А. Г. Вульфиуса по новой истории для средней школы для 5-го и 6-го классов (Пг., 1916; ныне в фонде Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева»). На титуле дважды чернилами выведено: «В. Филипп», а сбоку карандашом — «Лосеву». Эти две фамилии соседствуют не случайно: именно в 1916 году Лосев, оставленный при Московском университете для написания магистерской диссертации, по рекомендации Пастернака занял преподавательское место при Вальтере Филиппе. Возможно, что, перебравшись к Филиппам, он поселился в той же комнате, о которой прежний преподаватель — Пастернак — впоследствии вспоминал в автобиографической повести «Люди и положения» [1750].
Среди изданий Пастернака в лосевской библиотеке есть и купленный в букинистическом магазине 12 января 1945 года томик «Две книги. Стихи» (М.; Л., 1927). Инскрипт на ней не имеет исторической ценности. Вместо дарственной надписи не оставивший нам о себе никаких сведений аноним аккуратно вывел карандашом внизу разворота форзаца цитату: «Ценность всего условна: зубочистка в бисерном чехле, подаренная тебе в сувенир, несравненно дороже двух рублей с полтиной. К. Прутков. 4/Х.<19>28». Но эта игривая надпись несет в себе и глубокий смысл, напоминая об измерениях иного, духовного, масштаба и о способности надписей и имен воскрешать прошлое — вечное и непреходящее.
Елена Тахо-Годи (Москва)«Другой» в «танцующем» Берлине 1920-х годов
Одним из наиболее острых ощущений, испытываемых русскими обитателями Берлина 1920-х годов, было ощущение нарастающего безумия. Федор Степун, именно в Берлине пытавшийся постичь безумие как «норму разума», в частности, писал:
…вся здешняя «европейская» жизнь, при всей своей потрясенности, все еще держится нормою разуму. Душа же, за последние пять лет русской жизни, окончательно срастила в себе ощущение бытия и безумия в одно неразрывное целое, окончательно превратила измерение безумия в измерение глубины; определила разум как двумерность, разумную жизнь как жизнь на плоскости, как плоскость и пошлость — безумие же как трехмерность — как качественность, сущность и субстанцию как разума, так и бытия. [1751]
По мнению Ильи Эренбурга, знаменитый немецкий порядок, поддерживавшийся «наперекор кризису, нищете, отчаянью, порядок до самого конца и наперекор концу, порядок во что бы то ни стало, жестокий порядок <���…> мыслим разве что на небе или в убежище умалишенных» [1752].
Андрей Белый, в свою очередь, связывал «обреченность» Берлина именно с немецкой боязнью «потрясенья сознания, быта, форм жизни», в то время как бесстрашный «обыватель Москвы плюхнул сразу на дно» [1753].
Поэт даже чувствовал себя обманутым «кошмаром» берлинского порядка:
…Берлин — организованный, систематически в жизнь проводимый кошмар, принимаемый под невинной формою обыденного, здравого (буржуазного) смысла: тот смысл есть бессмыслица <���…>. Таково уж свойство Берлина; в него попадаешь из «явнобезумной» Советской России, сперва отдыхаешь в покое и вполне безобидной ясности… Но потом все оказывается обманом. [1754]
«Безумие» и «кошмар» берлинской жизни выходили наружу. И в первую очередь это выражалось в небывалом размахе ночной жизни города, часто принимавшей уродливые формы [1755]. О нервическом веселье, царившем в немецкой столице, упоминал практически каждый посетивший ее беженец или гость из Советской России, независимо от его положения и убеждений. Особенно это касалось бесконечно, истерически танцующего города: «В Берлине столько же танцулек, сколько в Париже кафе и в Брюсселе банков. Танцуют все и везде, танцуют длительно и похотливо», — замечал Эренбург, который связывал берлинский вертеп с неудавшейся попыткой немецких буржуа «обыграть историю», с их стремлением забыться в безумном и бездумном веселье [1756].
В изданной несколько позднее повести «Морской сквозняк» (1932) Владимир Лидин (Гомберг), также неоднократно командировавшийся в Германию из Советской России, образ серого Берлина освещался желтым, похожим на масло или сало, светом роскошных витрин; даже городской асфальт словно «впитывал желтое сало огней». [1757]А за этими витринами, в многочисленных кафе и ресторанах происходила фантасмагория «шикарной» жизни, плыли в нескончаемом танце пары:
Подрагивая плечами, они плыли и плыли, и рука с пальчиками — сосисками амура — все крепче вникала в бархатный зад, и тяжело ходила бархатная пудовая грудь возле розово-выбритой щеки… <���…>. Только кончился танец, и была дама уже не измятой, а бархатно-облицованной, округло-лито-бархатной, и золотом, прочным золотом блистал ее рот, ибо не для поцелуев рот, а для мерного перемалывания пищи… [1758]
Лидин считал бесконечный берлинский танец способом отвлечения людей от трагических катаклизмов и революционных потрясений эпохи:
Дикая гроза грохотала на Востоке, и потоками ливня смывались сюда, к прочным западным берегам, толпы смытых людей, растрепавших имена, богатство и славу. <���…> Люди принимались за привычный прерванный труд… словно не было крушения, крови и смерти, — а уже везли в Европу… новые танцы, чтобы люди за конторками и в вагонах трамваев не слишком начинали скучать и задумываться, — везли новую музыку негритянского воя, свистков, барабана и грохота, под которую медленно, приникая друг к другу, поплыли эти толпы мужчин, женщин, подростков, спариваясь в зыбкости танца… [1759]
Эти настроения по-своему отразились в творческой судьбе Андрея Белого. Его решение вернуться в Москву зрело именно в Берлине, где он чувствовал себя непонятым, чужим и ненужным; «настроение публики» казалось ему «каким-то курфюрстендаммным»: «От хлеба я сыт и от пива я пьян, но… голоден, голоден: дайте мне хлеба духовного!» [1760]
В своей книге о Берлине «Одна из обителей царства теней» (1924), изданной уже в России, Белый писал, что до переезда в Германию считал себя западником, однако именно здесь убеждения его изменились. Воспитанный немецкой культурой, Белый в Берлине не видел ее вокруг себя, поражаясь лишь достижениям техники. Здесь он пришел к парадоксальному выводу, что немецкая культура переместилась в Россию, где ее действительно переживают люди [1761]. В мироощущении Белого сложно и трагически персонифицировалась противоречивая антизападническая тенденция, от которой предостерегал Василий Зеньковский: возникновение в русских умах духовного протеста против европейской культуры оказывалось направленным, в конечном итоге, «на русскую же душу» [1762].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: