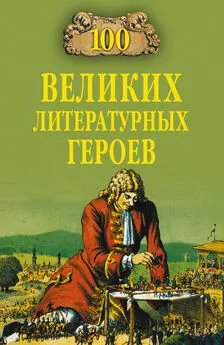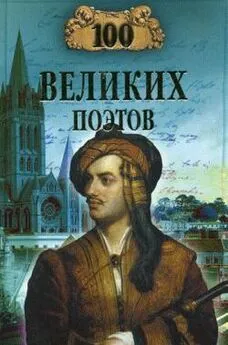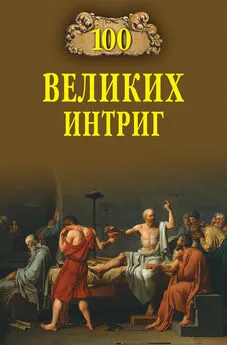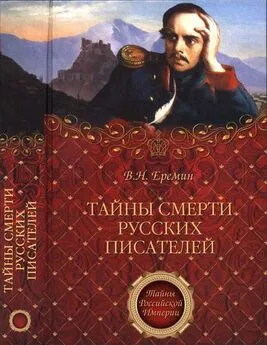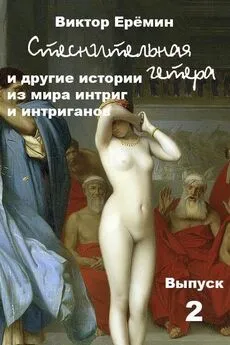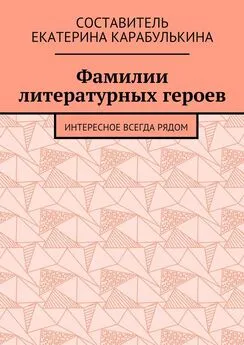Виктор Еремин - 100 великих литературных героев
- Название:100 великих литературных героев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-2223-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Еремин - 100 великих литературных героев краткое содержание
Славный Гильгамеш и волшебница Медея, благородный Айвенго и двуликий Дориан Грей, легкомысленная Манон Леско и честолюбивый Жюльен Сорель, герой-защитник Тарас Бульба и «неопределенный» Чичиков, мудрый Сантьяго и славный солдат Василий Теркин… Литературные герои являются в наш мир, чтобы навечно поселиться в нем, творить и активно влиять на наши умы. Автор книги В.Н. Ерёмин рассуждает об основных идеях, которые принес в наш мир тот или иной литературный герой, как развивался его образ в общественном сознании и что он представляет собой в наши дни. Автор имеет свой, оригинальный взгляд на обсуждаемую тему, часто противоположный мнению, принятому в традиционном литературоведении.
100 великих литературных героев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если мы вспомним, что сам Достоевский в «Братьях Карамазовых» признавал главной приметой наличия дьявола – отсутствие четких границ, размытость критериев, прежде всего в нравственных законах, то в этой же статье Писарев вскрыл изначальный сатанизм идей «Преступления и наказания». Цитирую: «Какой голос эта девушка должна была принять за голос совести – тот ли, который ей говорил: “Сиди дома и терпи до конца, умирай с голоду вместе с отцом, с матерью, с братом и с сестрами, но сохраняй до последней минуты свою нравственную чистоту”, – или тот, который говорил: “Не жалей себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси, утешь, поддержи этих людей, накорми и обогрей их хоть на неделю во что бы то ни стало”? Я очень завидую тем из моих читателей, которые могут и умеют решать сплеча, без оглядки и без колебаний, вопросы, подобные предыдущему. Я сам должен сознаться, что перед такими вопросами я становлюсь в тупик; противоположные воззрения и доказательства сталкиваются между собою; мысли путаются и мешаются в моей голове; я теряю способность ориентироваться и анализировать; начинается тревожное и мучительное искание какой-нибудь твердой точки и какого-нибудь возможного выхода из заколдованного круга, созданного исключительным положением. Кончается ли это искание каким-нибудь положительным результатом, нахожу ли я точку опоры и удается ли мне заметить выход – об этом я не скажу моим читателям ни одного слова». [267]
Критик, безусловно, слукавил, поскольку в статье дал ясно понять, что при всей видимой спасительности самопожертвования Сони, в действительности она никому не помогла, никого не спасла, но многих, слишком многих ввергла, а еще большее число могла ввергнуть в пучину разврата и преступлений.
В 1868 г. был опубликован роман Достоевского «Идиот», и с его страниц раздался «ответ Аглаи Епанчиной», [268]после которого все в «Преступлении и наказании» встало на свои места. Ибо это был четкий, Божеский ответ народа на интеллектуальные изощрения интеллигенции. И хотя в школе изучается только интеллигентская, как показывает практика, глубоко развращающая умы трактовка образов в романе, народное понимание Раскольникова и Сони Мармеладовой малыми частями разбросано по многочисленной критической литературе. Иначе и быть не могло, ибо жизнь всегда берет верх над мертвячиной высосанных из пальца мудрствований.
Хотел этого Достоевский или нет, но в романе показаны два преступления: плотское – двойное убийство, совершенное Родионом Раскольниковым против людей, – и духовное, совершенное Соней Мармеладовой против Бога и мiра. Читателю предоставлено право понять, какое из этих двух преступлений тяжелее и требует большей кары.
Писатель, в отличие от интеллигентской критики, не смог осудить Раскольникова именно за убийство. Причины этого пояснил Писарев: «Ненависть и презрение приливают широкими и ядовитыми волнами в молодую и восприимчивую душу Раскольникова в то время, когда грязная старуха, паук в человеческом образе, тянет из него все, что можно вытянуть из человека, находящегося накануне голодной смерти. Ненависть и презрение одолевают его с такой силой, что ему становится бесконечно отвратительным даже бить эту старуху, даже марать руки ее кровью и ее деньгами, в которых ему чуются слезы многих десятков голодных людей, быть может даже многих покойников, умерших в больнице от истощения сил или бросившихся в воду во избежание голодной смерти».
Фактически Раскольников выступает Божьим палачом над защищенным земным государством банкиром-беспредельщиком, скрывшимся в романе под личиной мерзкой старухи-процентщицы, а отрицать справедливость земной Божией кары не смеет никто. Даже ее исполнитель, который кается прежде всего в своей гордыне: «Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею…» [269]В целом Раскольников и есть олицетворение краха гордыни возомнившего себя кем-то человека.
Убивая процентщицу, Раскольников на деле выступил слепым орудием Божией кары. Настоящее испытание, которого он так жаждал, вопрошая: – Тварь ли я дрожащая или право имею? – настало в то мгновение, когда он увидел вошедшую в квартиру Лизавету Ивановну. «Это была… робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои». Лизавета, несмотря на замысел писателя, и стала центральной, духовно очистительной героиней романа. Наделенная всеми чертами юродивой, вечно беременная, но никем не осуждаемая непорочная дева, она оказалась тем самым невинным агнцем – символом Христа, – которую послали на заклание душегубу. Если бы Раскольников и впрямь «имел право», он, невзирая ни на что, не тронул бы Лизавету; зарубив же ее топором, интеллигент-истеричка признал себя «тварью дрожащею», не способной на великий поступок. Свершилось вечное проклятие человечества – мерзкая преступная старушонка не ушла сама, но уволокла следом за собой невинную жертву.
Беззвучная сцена убийства Лизаветы и стала Голгофой Раскольникова, перевернувшей его душу и в конце концов приведшей к вселюдному покаянию. «Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху недоставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета было проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его».
Эта «медленно протянутая рука» и есть бунт Лизаветы против мира зла (в том числе и против ее злобной сводной сестры-процентщицы) и сделала гораздо больший, хотя и длительно продолжавшийся во времени переворот в душе убийцы, чем бесконечная говорильня, слезы и стенания Сони Мармеладовой с ее чтением и перетолковыванием Евангелия. Но самое ужасное в этом жесте Лизаветы – разоблачение идеи Раскольникова, ибо становится ясным: под «тварью дрожащей» он понимал совесть человеческую, а «право имеет» тот, у кого ее нет! Лизавета потому и была послана под топор палача, чтобы гибелью своей поднять в Раскольникове великий бунт совести и вернуть его в лоно родных ему «тварей дрожащих».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: