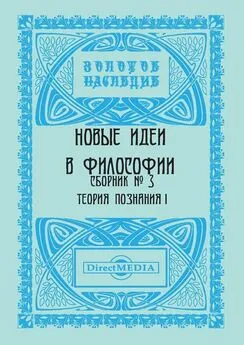Коллектив авторов - Новые идеи в философии. Сборник номер 3
- Название:Новые идеи в философии. Сборник номер 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812
- Год:2014
- Город:М.-Берлин
- ISBN:978-5-4458-3856-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Новые идеи в философии. Сборник номер 3 краткое содержание
Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания. К тому же за сто прошедших лет ни по отдельности, ни, тем более, вместе сборники не публиковались повторно.
Новые идеи в философии. Сборник номер 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В связи с этими различиями стоит еще одно различиe, представляющее большую важность для феноменологического уяснения сущности познания. А именно, необходимо отличать адеквацию или осуществление в собственном смысле слова от адеквации или осуществления в несобственном их смысле. В последнем случае между мысленно «мнимым» и чувственно «данным» нет никакого внутреннего, необходимого отношения; чувственно «данное» служить лишь простой опорой, простой случайной базой для совершения акта мысленной интенции, которая потому остается «пуста», «бледна» и «неудовлетворенна»; подлинного интуитивного постижения мыслимого здесь не происходить; оно не отожествляется с предметом, как интуитивной, непосредственной данностью; интуиция играет здесь роль лишь излагающего или представительствующего содержания; таково положение дел при чисто обозначительных, сигнификативных (или сигнитивных) и номинальных актах. Наоборот, адеквация в собственном смысле слова характеризуется действительным удовлетворением мысленной интенции, заполнением пустоты определенным интуитивным содержанием, большим или меньшим выявлением самого предмета. Чувственно данное служить при этом не только опорой мысленного акта, не простой иллюстрацией его интенции, а более или менее совершенным осуществлением съинтенционированной мысленно предметности 278.
Только в этом случае имеет вообще место действительный акт познания; только здесь можно в прямом смысле слова говорить о большей или меньшей идентификации мыслимого и созерцаемого. В этом случае, значит, интенциональная сущность акта содержит в себе некоторый плюс по сравнению с теми двумя элементами (качеством и материей акта), которые, как было указано, присущи интенциональному содержанию всякого переживания. Плюс этот есть большее или меньшее интуитивное «обилие» познавательного акта 279. Идеалом обилия было бы согласно этому такое представление, которое заключало бы весь свой предмет целиком в своем феноменологическом содержании 280. Отсюда ясно, что «каждый конкретно полный объективирующей акт имеет три составных момента: качество, материю и представительствующее содержание» 281. Но только в том случае, если это последнее будет находиться в тесной внутренней связи с материей, если оно будет интуитивным осуществлением той интенции, которую эта материя собою знаменует, только тогда можно говорить о полном познавательном акте 282. В этом случае три указанных момента составляют в своей совокупности познавательную сущность объективирующего акта 283.
3) После всего сказанного совершенно ясно, что степень осуществления мысленной интенции или же достоинство познавательной сущности объектирующего акта зависит от качества интуитивной «полноты» объективации, т. е. от того, до какой степени совершенна наличность предмета в познающем его акте.
Вполне понятно, что сфера познания принимает с этой точки зрения вид лестницы, внизу которой стоят чисто обозначительного характера акты, а вверху которой помещается идеал адеквации, как заключительная цель всякого «осуществления» 284. «Интуитивным содержанием такого заключительная представления является абсолютная сумма всякой полноты; интуитивным представителем является сам предмет, как он есть сам по себе. Представляемое и представляющее содержание здесь одно и то же. И где какая-либо интенция представления достигает чрез посредство такого идеально-совершенного восприятия завершительного осуществления, там устанавливается подлинное adaequatio rei et intellectus: предметное здесь «дано» или действительно «налично» именно как такое, в качестве какового оно интендировано; тут нет более такой частичной интенции, которой недоставало бы осуществления» 285.
Этим устанавливается внутренний смысл понятий очевидности и истины. Истина есть «полное согласование между замысленным и данным как таковым. Это согласование переживается в очевидности, поскольку очевидность является актуальным свершением адекватнейшего синтеза осуществления» 286. Очевидность представляет собою акт «совершеннейшего синтеза осуществления» или «синтеза совпадения», в то время как истина есть сам синтез, само совершенство совпадения в его объективном смысле, в его идеальном бытии 287.
4. Такая формулировка сущности познания, видящая его совершенство в полном совпадении мышления с созерцанием (мыслимого с созерцательно-данным), требует, однако, расширения понятия созерцания, о котором уже упоминалось выше. Ибо в чувственном созерцании может свое осуществление найти лишь такая интенция, которая направляется на отдельный, конкретный предмет. Интенция же, присущая актам отвлеченного сознания, может воспользоваться чувственным созерцанием едва лишь, как случайной базой своего совершения, или как отдаленной иллюстрацией. Так, например, понятие бытия не может быть реализовано актами обыкновенного восприятия, ибо бытие как таковое не есть что-либо реальное и не является даже реальным предикатом. В равной мере – и сознание тожества. Между тем, более или менее адекватное познание таких отвлеченных предметов (предметов «высшего порядка») не подлежит никакому сомнению. Это подтверждается самым простым чувственным восприятием, в котором не трудно обнаружить общие, категориального характера моменты. К тому же подтверждением служит отвлеченное познание хотя бы целого ряда математических областей, не имеющих даже и самого отдаленного соприкосновения со сферой чувственного восприятия. В учении, например, о множествах математикой достигается, несомненно, адекватнейшее познание. И, тем не менее, «данность» предмета здесь явственно отграничена от чувственности и совершенно лишена присущих этой последней характеров. Таким образом, необходимо признать наличность общего, родового, идеального или категориального созерцания, осуществляющего «данность» чисто категориальных и идеальных предметов 288. При этом самым трудным вопросом относительно такого созерцания является вопрос о «представителе» интенции, который должен быть выявлен созерцанием и более или менее отожествлен с категориальным предметом интенции; ибо, подобно всему категориальному акту познания, он имеет вторичную природу, является так или иначе обоснованным на созерцании чувственного характера и должен быть выэлиминирован из общего комплекса чувственного «представительства» 289. Существенным свойством этого категориального «представителя» (т. е. носителя полноты осуществления категориальной интенции) является то, что «при всей изменчивости обосновывающих актов… представительствующее содержание для каждого вида обоснованных актов бывает единственно» 290, соответствуя тем единственности представляемого им и благодаря этому созерцательно осознаваемого категориального предмета, чему примером может служить любая логическая форма. Вполне понятно, потому, что не в сфере «внешней» чувственности следует искать «категориальных представителей», а лишь в сфере вторичной («внешнюю» чувственность предполагающей) «внутренней» чувственности, в сфере «рефлективных содержаний» 291. «Психическая связь, которая переживается в актуальном (т. е. подлинном, интуитивном) отожествлении или соединении и т. п., может быть, как нам кажется, сведена путем сравнительного рассмотрения к некоторой всесторонней общности, которую нужно мыслить отдельно от качества и смысла (материи) познания, и которая при таком сведении являет в своем лице представителя, специально присущего моменту категориальной формы» 292. Например, «представителем» объективного тожества является отвлеченный от отдельных актов отожествления и по своей сущности единственный психический момент отожествления 293.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: