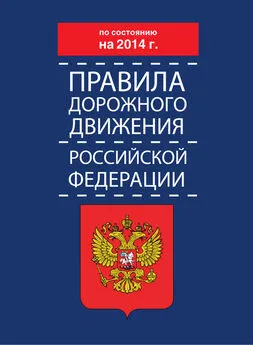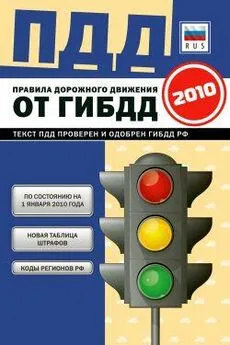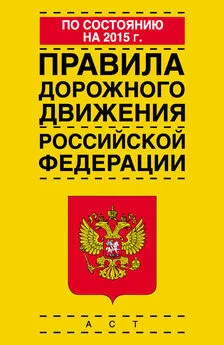Коллектив авторов - Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография
- Название:Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0428-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография краткое содержание
Книга исследует динамику развития российских идеологических движений в драматический период 2011–2014 гг., когда возникшие в связи с масштабными антиправительственными митингами либеральные надежды вскоре были развеяны реакцией в государственной политике, а также ростом проимперских настроений. Медиа и общество находятся в сложной взаимосвязи отражений и влияний, поэтому данная книга использует двойную призму: Интернет для авторов не только зеркало, но и один из важнейших факторов социальных процессов, оказывающий на последние существенное воздействие.
Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Случай постсоветской России наглядно демонстрирует, как обществу в 1990-е гг. буквально навязывалось «имперское сознание». В 1992–1994 гг. на политической сцене России уже в полной мере проявились политические силы, которые можно назвать имперскими реставраторами. Например, бессменный лидер российских коммунистов Г. Зюганов уже тогда патетически взывал к чувствам русских людей: «Без воссоединения ныне разделенного русского народа наше государство не поднимется с колен» [534]. Левые силы, да и не только они, активно выдвигали триединое требование: «возрождение СССР», «объединение разделенного русского народа» и «защита русских соотечественников, брошенных на произвол судьбы» в новых независимых государствах [535]. Это те же идеи, которые ныне поддерживает большинство россиян, но ведь в начале 1990-х такие лозунги не имели большого отклика в массовом сознании. Социологические опросы 1993 г. не выявили у россиян ни малейших признаков сожалений о распаде страны и тяги к ее объединению. Например, только 16 % россиян в то время заявляли, что их жизнь в значительной мере связана с другими республиками бывшего СССР, при этом у этнических русских актуальные эти связи были менее значимыми, чем у респондентов других этнических групп [536], многие из которых, возможно, были выходцами из других республик бывшего Союза [537]. Лишь 9,3 % русских и 12,9 % представителей других национальностей заявляли, что они ощущают «свою общность с людьми и историей этих республик» (речь шла о союзных республиках). И даже простой интерес к территориям за пределами России был тогда невысок. К Украине интерес был выше, чем к другим республикам, но и к ней проявляло внимание меньшинство – только 21 % русских респондентов [538].
К 1993 г. появился Конгресс русских общин, который стремился превратить многомиллионную русскую диаспору в новых государствах, бывших республиках СССР, в мощную политическую силу и орудие русского ирредентизма, то есть объединения вокруг России людей, считающих себя русскими. И каков был результат? Ничего похожего на имевшие место в прошлом и настоящем венгерский ирредентизм (например, присоединение Северной Трансильвании и проект Великой Венгрии) или румынский (Великая Румыния) ирредентизм. Ничего, что могло бы даже отдаленно напоминать по своей мощи указанные ирредентистские движения, на территории СНГ тогда не проявилось. Ирредентизм считается в теории одним из ярких признаков имперского национализма и имперского массового сознания. И в 1990-е гг. эти свойства проявлялись у иных народов, например венгров, сербов и румын, больше, чем у русских.
Можно утверждать, что жесткие государственники и имперские националисты до середины 1990-х гг. ссылались на «волю народа» без малейшего на то основания. В начале 1990-х гг. 60 % опрошенных социологами под руководством Ю. Левады респондентов рассматривали Запад как модель для подражания, имея в виду его политическую систему, рыночную экономику и образ жизни [539]. Прошло время, и к 1995 г. стали все более ощущаться трудности переходного периода: нарастала усталость от реформ и ошибок в их проведении. Именно в это время массовые настроения начали постепенно меняться. В середине 1990-х гг. процесс эрозии позитивного образа Запада только начался, а к 2000 г. оценки начала 1990-х поменялись на противоположные. В 2001 г. 67 % опрошенных в России указали, что западный вариант общественного устройства в той или иной мере не подходит для российских условий и противоречит укладу жизни российского народа [540].
Радикальность социально-экономических перемен в России в 1990-е гг. была ниже, чем, например, в Польше или странах Балтии; по крайней мере, отраслевая структура экономики России и состав ее менеджмента изменились меньше. Однако у названных соседей России психологическая болезненность от шока перемен смягчалась желанием войти в Европу. Считалось, что ради этой самостоятельной и важной цели можно было потерпеть дискомфорт и преодолеть болезни роста. В России такого защитного механизма в народном сознании не было: движение в Европу не являлось самостоятельной целью, напротив, эта идея сама зависела от нескольких других. Важнейшую роль в восприятии вестернизированных реформ играло отношение к социализму и к СССР. В 1989–1992 гг. более половины россиян поддерживали лозунг «Социализм завел нас в тупик» [541]. Примерно такая же доля респондентов выступала в поддержку аналогичной идеи в Польше 1980-х гг., но там подобные настроения специально оберегали, на их сохранение работали музеи социалистического быта, подавлявшие желание вернуться в социализм, фильмы А. Вайды и едва ли не вся польская литература. В России ничего похожего не было, и к 1995 г. стал популярным другой тезис: «Социализм был не так уж плох, плохи были его лидеры», – а к началу 2000-х были реабилитированы и советские лидеры.
В этом отношении показательны перемены отношения к образу И. Сталина. Во второй половине 1980-х, в период начала общенациональных социологических опросов в СССР, Сталин не попадал в списки выдающихся деятелей и был фигурой, постоянно подвергаемой в перестроечных медиа жесточайшей критике. В 1991 г., в новой постсоветской России отношение к нему в массовом восприятии лишь ухудшилось. Тогда менее одного процента опрошенных первым в России социологическим центром ВЦИОМ посчитало, что о нем будут помнить через десять лет. Подавляющее же большинство респондентов было уверено, что его скоро просто забудут. Однако этот прогноз не сбылся: менее чем через десять лет, в 2000 г., тот же социологический центр зафиксировал, что Сталин, по данным опросов общественного мнения, лидирует в списке самых выдающихся глав российского государства в ХХ веке [542]. Показательно, что третью строчку в этом рейтинге занимал Ю. Андропов – руководитель Советского Союза в 1982–1984 гг., а до этого многолетний глава КГБ, который, так же как и Сталин, воспринимался в массовом сознании россиян как сильный авторитарный администратор – «железная рука» [543]. После десяти трудных лет привыкания к новой социальной и экономической среде у многих россиян возродились привычные советские стереотипы, связывающие в сознании стабильность исключительно с авторитарным правителем. Но еще важнее, что эти патерналистские стереотипы навязывались массам российской политической элитой, которая не только морально реабилитировала Сталина, но и активно его рекламировала. В 2000 г., по случаю Дня Победы, имя Сталина впервые прозвучало в позитивном ключе из уст президента Путина; тогда же кинорежиссером Н. Михалковым была озвучена идея переименования Волгограда в Сталинград [544]. С тех пор тема возвращения городу имени Сталина возникала каждый год накануне 9 мая.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: