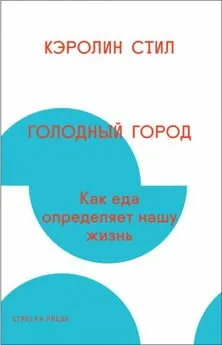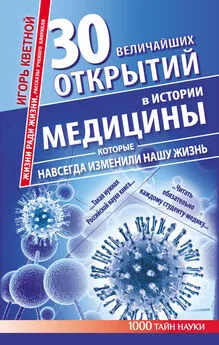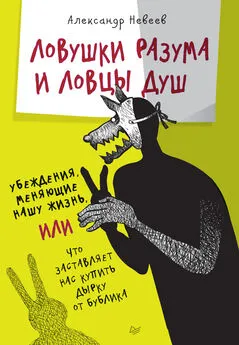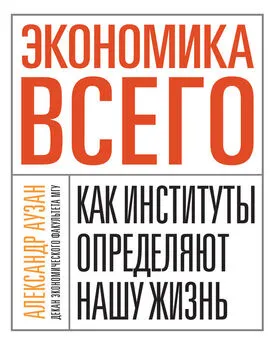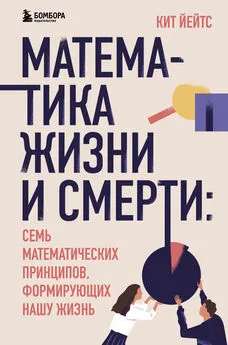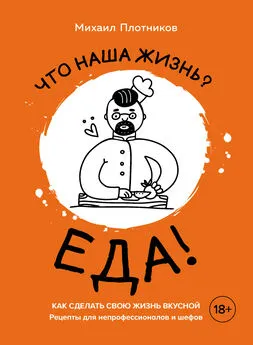Кэролин Стил - Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь
- Название:Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-986264-24-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кэролин Стил - Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь краткое содержание
Еда разграничивает город и деревню, влияет на транспортную инфраструктуру и систему утилизации отходов, создает новые архитектурные типологии и рабочие места, определяет планировки квартир и устройство первых этажей, задает городской ритм и наполняет городское пространство. «Голодный город» архитектора Кэролин Стил — это подробное описание гигантской «пищевой цепочки», не просто обслуживающей город, но составляющей саму его жизнь.
Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По разнообразию смыслов агора не знала себе равных, но одна ее черта характерна для всех рынков — это комический потенциал. По природе своей рынок — не только политическое, но и комическое пространство: представления и пародии, ругательства и остроты для него столь же характерны, как речи и скука для парламента. В прошлом рынки служили для городов предохранительным клапаном, местом, где можно было расслабиться и позабыть свои печали. В христианских городах эта их роль с особой наглядностью проявлялась во время карнавалов — праздников раблезианского излишества, отмечаемых по всей Европе в последние недели перед Великим постом, когда телесным радостям давалась поблажка перед долгим воздержанием. На карнавале переставали действовать все табу: короли и нищие бродили по городу в костюмах шутов и епископов, люди менялись одеждой, мужчины облачались в женские платья (и наоборот), а лица прятались за гротескными масками с известно что обозначавшими длинными носами. Нарушение правил приличия в эти дни считалось хорошим тоном: люди заявлялись в дома незнакомцев, обменивались оскорблениями, бегали по улицам, лупя друг друга надутыми свиными пузырями, швырялись друг в друга мукой, засахаренными фруктами и яйцами 28. Как видно из самого названия праздника, «карнавал» происходит от латинских слов carnis (мясо) и levare (удалять) — мясо играло в нем центральную роль. Заключительный пир в Жирный вторник один англичанин XVII века описывал так: «Время, когда пищу жарят и парят, пекут и подрумянивают, варят и тушат, режут, рубят, шинкуют, поглощают и пожирают в таких количествах, что, можно подумать, люди хотят набить утробу едой на два месяца вперед или запастить в собственном брюхе провизией на дорогу до Константинополя, а то и до Вест-Индии» 29.
Ключевую роль в организации праздника часто играли гильдии мясников: они устраивали игры, состязания и процессии вроде той, что состоялась в Кенигсберге в 1583 году — 90 мясников пронесли по городу гигантскую колбасу весом в 200 килограммов. Этот исполин, как и свиные мочевые пузыри, воплощал в себе множество смыслов, связанных с мясом: плотоядность, плотские побуждения, бойню. На карнавале главные роли делили между собой еда, секс и насилие, смешивая воедино все плотские удовольствия и опасности. В это время часто устраивались свадьбы, а также не столь возвышенные церемонии: в Германии, например, существовал обычай запрягать незамужних девушек в плуг, чтобы они на глазах у всех «пахали» рыночную площадь — с чем именно ассоциировался этот процесс, тоже можно не пояснять 30.
В книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» историк общества Михаил Бахтин отмечал, что карнавал воплощает собой смеховой ритуал: древнюю традицию, в рамках которой «серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково священными, одинаково, так сказать, „официальными"» 31. Иными словами, карнавал был торжеством «другого» — всего того, что подавлялось в повседневной жизни. Покровы городской утонченности спадали, обнажая гротескное подбрюшье этой жизни, а плотские бесчинства прославлялись как неотъемлемая часть чередования жизни и смерти: «...Совокупление, беременность, родовой акт, акт телесного роста, старость, распадение тела, расчленение его на части и т.п., во всей их непосредственной материальности, остаются основными моментами в системе гротескных образов. Они противостоят классическим образам готового, завершенного, зрелого человеческого тела, как бы очищенного от всех шлаков рождения и развития» 32.
На картине Питера Брейгеля «Битва Масленицы и Поста», написанной в 1559 году, мы видим кульминационный момент празднества. Перед нами — рыночная площадь, заполненная людьми, которые занимаются обычными делами: женщина в белом чепце торгует рыбой из корзины, другая жарит блины на открытом огне, мужчина торопится куда-то с охапкой дров, двое детей играют с волчками. Никто, похоже, не замечает, что рядом бродит шут с зажженным факелом, хотя дело происходит днем. Впрочем, всех этих персонажей художник поместил на заднем плане. Ближе к зрителю разворачивается главное действо: шутливый поединок между толстяком верхом на бочке
(на голове у него вместо шлема красуется пирог) и тощей «старухой» (на самом деле это мужчина, переодетый монашкой). Оба вооружены: толстяк — поросенком на вертеле, старуха — деревянной лопатой с двумя рыбинами. Современники Брейгеля немедленно узнали бы в этой парочке Карнавал и Пост, сражающиеся за душу рыночной площади. Они также знали, что Карнавал непременно проиграет бой и что за его поражением последуют пародийный суд, приговор и публичная «казнь». Этот ритуал представлял собой конвульсивный сбой в ритме городской жизни — лобовое столкновение плотской необузданности с религиозным воздержанием и поражение плоти. Впрочем, во времена Брейгеля сам обычай оказался в опасности: реформаторы-протестанты считали его языческую символику насилия и разгула неприличной. С середины XVI века в Северной Европе начали постепенно подавляться крайние проявления карнавала, составлявшие в конце концов его суть. В итоге людям пришлось искать другие способы развлечься и новые выходы для ритуального смеха.
В Лондоне эту комическую роль — совершенно вопреки воле ее создателей — взяла на себя пьяцца Ковент-Гарден. Как видно из названия, архитектор Иниго Джонс, построивший эту площадь в 1631 году, вдохновлялся итальянской ренессансной архитектурой, и результат — элегантные дома с аркадами и портик церкви Святого Павла, напоминающий античный храм, — несомненно соответствовал ее канонам. Джонс и его заказчик, четвертый граф Бедфорд, надеялись повторить коммерческий успех парижской Пляс-Рояль (ныне — площадь Вогезов) — спекулятивного проекта короля Генриха IV, ставшего благодаря покровительству монарха самым фешенебельным адресом города (среди тамошних жильцов был сам кардинал Ришелье) 33. Поначалу дела у них шли неплохо: новые дома на северной стороне площади быстро раскупили аристократы. Но у всей схемы был один роковой изъян. В отличие от Пляс-Рояль с ее модным променадом и королевским покровительством, на пьяцце Ковент-Гарден ничего особенного не происходило. Когда граф Бедфорд покинул Лондон на время Гражданской войны, ее облюбовали торговцы фруктами и овощами, стремившиеся нажиться на растущем в столице спросе на продукты садоводства, и уже вскоре на площади пустил корни рынок со всем присущим ему беспорядком. Всего через десять лет дворяне, купившие особняки на пьяцце, начали перебираться в другие места, жалуясь на шум и мусор.
Историю этой площади можно расценить как предостережение архитекторам. Иниго Джонс должен был догадаться, что произойдет: в то время любые открытые пространства в городах — даже поверхность Темзы, если она замерзала зимой, — в одно мгновение превращались в неофициальные рынки. Джонс не предвидел, каким образом будет обжито его детище, но он по крайней мере создал великолепную площадку, где могла сосредоточиться жизнь всего Лондона, и она там сосредоточилась, как только торговцы едой снизили «высокий штиль» площади до подходящего уровня. Вскоре пьяцца стала популярным местом для игры в мяч, кукольных представлений и фейерверков, а ее округа заполнилась тавернами, «хамамами» (турецкими банями, по сути служившими прикрытием для борделей) и кофейнями. Последние стали центрами культурной и интеллектуальной жизни Лондона, как, впрочем, и ее вульгарной, сомнительной изнанки. Так, кофейня Тома Кинга, притулившаяся под сенью портика церкви Святого Павла, приобрела печальную известность как прибежище столичных распутников и кутил. На гравюре Уильяма Хогарта «Утро» мы видим группу богатых подвыпивших гуляк, вываливающихся на рассвете из ее дверей, они настолько осоловели от спиртного, что не замечают карманников, которые вертятся рядом, охотясь за их кошельками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: