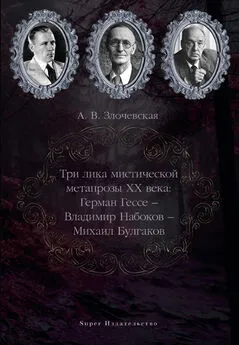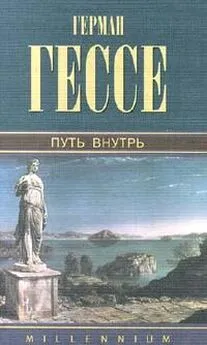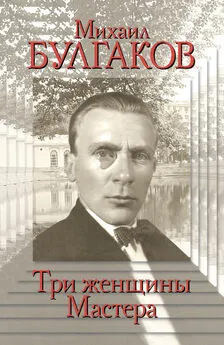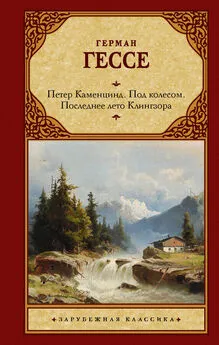А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков
- Название:Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентСупер-издательство8f90ce9f-4cec-11e6-9c02-0cc47a5203ba
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00071-999-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков краткое содержание
В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.
Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.
The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria. And this phenomenon was common to both, Russian-language literature at home and abroad, and West European literary writings.
The book is addressed to a wide range of readers, from literary critics, university lecturers and students to anyone interested in Russian and West European fiction.
Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подчиняясь высшему в иерархии космического миропорядка закону Бога, дьявол вопреки своей воле творит, в конечном итоге, добро. Этот постулат и сформулирован в эпиграфе из «Фауста», предпосланном Булгаковым к своему роману:
«…Так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы,
что вечно хочет зла
и вечно совершает благо».
Критики почему-то чаще всего воспринимают эти «рекомендательные» слова Мефистофеля как декларацию всесилия дьявола, в то время как здесь он более чем отчетливо исповедует ограниченность своих возможностей и, более того, свою подчиненность [213]. «Добро» дьявола вынужденное. Будучи не в силах победить Бога, он пытается «примазаться» к Его славе. Такова диалектика взаимодействия Бога и дьявола.
«Зло, исходящее от дьявола, – как совершенно справедливо объясняет М. Дунаев, – преобразуется во благо для человека, благодаря именно Божьему попущению, Господнему произволению» [214].
И именно об этом говорит текст булгаковского романа, чего, к сожалению, не заметил уважаемый богослов.
Такова, очевидно, и позиция самого Булгакова. Писатель в эпиграфе к «Мастеру и Маргарите» дает собственный, отличный от всех известных переводов презентации Мефистофеля у Гете [215]:
Ein Teil von jener Kraft
Die stets das Böse will und stets
das Gute schafft.
…часть той силы,
что вечно хочет зла
и постоянно творит добро/благо.
Булгаковский перевод, наиболее близкий к оригиналу, почти дословный, делает акцент на желании зла и невольности совершаемого блага.
Весьма интересны в этом смысле и знаменитые софизмы Воланда о диалектике света и тени, которые он высказывает перед Левием Матвеем:
«Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп <���…> Ты и не можешь со мной спорить, по той причине, о которой я уже упомянул, – ты глуп»[Б., Т.5, с.350].
Обычно это рассуждение вызывает у критиков абсолютный восторг и трактуется как образец высшей мудрости и глубокомыслия, иногда даже цитируется в качестве окончательной истины и приводится как последний, уже неопровержимый аргумент в споре о добре и зле.
«Зло необходимо, – писал А. Франс. – Зло – единственная причина существования добра. Без гибели не было бы смелости, без страдания – сострадания» [216].
Присмотримся, однако, к сим словесам. А откуда, собственно, известно, что свет без тени невозможен? Да, это мы живем в мире, где свет рождает тень , поэтому мы ничего иного не можем себе представить. Быть может, лишь наш способ мышления таков, что мы не в состоянии представить себе мира без тени , ведь восприятие окружающего искажено внедренным в нас «вирусом» зла. Биполярная система тень – свет – лишь координаты нашего испорченного грехом сознания. А чтó вне этой системы, нам неведомо.
Но и в нашей системе мышления, если отрешиться от представлений общепринятых, станет очевидно, что свет : красота, радость любовь, энергия творчества, – все это существует отнюдь не всегда только в сравнении с противоположным – безобразием, бессилием, ненавистью и т. д. Более того, это зло познается в соотношении с добром: если человек живет во зле (болен и бессилен, уродлив, и безобразие окружает его, живет в грязи, физической и моральной и т. п.) и иного не знает, то он будет считать свое состояние нормальным. Что его жизнь дурна, он поймет, только увидев свет и познав добро. А вот добро человек способен ощущать не только по контрасту со злом, но и самостоятельно. Чтобы пережить счастье любви, необязательно прежде ненавидеть, а чтобы испытать радость творчества, совсем необязательно до этого быть бессильным бездарем. Так что свет без тени может быть (правда, не в нашей, человеческой системе мышления, в нашей системе это возможно лишь в краткие мгновения и периоды озарений, вдохновения, просветления), а вот тень без света невозможна в принципе.
Не случайно в первоначальных рукописях «Мастера и Маргариты» мелькнула фраза: «Свет порождает тень, но никогда, мессир, не бывает наоборот» [217].
Принято считать, что парадоксы Воланда на тему света и тени выражают и позицию самого Булгакова. Часто это одни из аргументов в пользу концепции о дуалистической, или релятивной концепции мироздания, якобы нашедшей свое художественное воплощение в булгаковском «закатном шедевре». Вполне вероятно, однако, что сам Булгаков сознавал, что «каламбур» его персонажа о свете и тени не только неудачен, но и не безвреден, а ему, как Автору, придется за него отвечать и даже расплачиваться. Остроумную и, на мой взгляд, справедливую догадку о том, что в образе Фиолетового рыцаря Булгаков изобразил себя, высказал В.П. Крючков [218]. Как Данте, пройдя Чистилище в образе своего героя alter ego, так и создатель «Мастера и Маргариты» в образе Коровьева, прожившего свой срок в столь неприглядном земном обличье, – оба «свой счет» оплатили и закрыли [Б., Т.5, с.368].
В конечном итоге абсолютно прав был «недалекий фанатик» Левий Матфей, когда назвал своего «умного» собеседника софистом. Ведь софи́зм(греч. sophisma – хитрая уловка, измышление) это —
«рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку и служащее для придания видимости истинности ложному утверждению. С. является особым приемом интеллектуального мошенничества, попыткой выдать ложь за истину и тем самым ввести в заблуждение. Отсюда „софист“ в одиозном значении – это человек, готовый с помощью любых, в т. ч. недозволенных, приемов отстаивать свои убеждения, не считаясь с тем, истинны они на самом деле или нет» [219].
Ничего сверхъестественно умного в софизмах Воланда нет – всего лишь слова, слова, слова… Правда, весьма эффектные. Хотя и лживые, как всегда. Ведь он переносит законы бытия человеческого сознания на космический миропорядок, что, разумеется, абсолютно некорректно. Тем более не к лицу ему – обитателю космических сфер. И очевидно, сам сознавая свое бессилие, Воланд злится – и изливает свой «гнев бессилия» [Б., Т.5, с.37] на ни в чем не повинного Левия Матвея, обозвав его глупцом. Iuppiter iratus ergo nefas!
Вообще сцена на крыше Румянцевской библиотеки производит более чем странное впечатление: Дух премудрый тратит свою блестящую логистику на Левия Матвея – человека, который живет сердцем, а аргументы ума и логики для него – не более чем колебание воздуха. Еще А.С. Пушкин заметил в письме А.А. Бестужеву по поводу характера Чацкого:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: