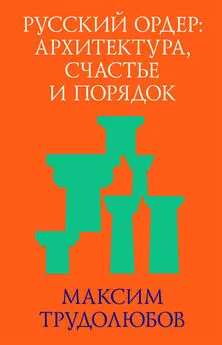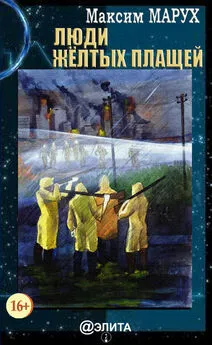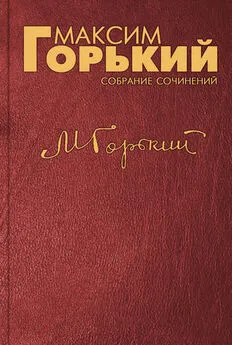Максим Трудолюбов - Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России
- Название:Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-196-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Трудолюбов - Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России краткое содержание
Книга редактора и колумниста «Ведомостей» Максима Трудолюбова «Люди за забором» – это попытка рассмотреть закономерности российской истории, проанализировать зависимость современной России от своего прошлого и подумать о способах преодоления этой зависимости в будущем, используя самый обыденный, но потому и самый неочевидный материал – устройство российского частного пространства – квартиры, дома, двора, забора – в его связях с политикой, экономикой, культурой и социальной жизнью.
Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но проблема еще более фундаментальна. Формирование института защищенной законом частной собственности ведет к появлению в стране автономных деятелей, а значит, и к ограничению влияния государства. Так недалеко и до введения в стране режима верховенства права, который ставит между государством и человеком арбитра, не зависящего ни от первого, ни от второго. Историки и политологи говорят нам, что изменения такого рода не происходят бесконфликтно: зачем правящей элите добровольно отказываться от власти? «Сделка» по переходу от авторитарной системы к демократической слишком затратна, затруднена массой ограничений и эффектом колеи.
Между тем Россия – страна, где правовые тектонические сдвиги, впрочем не распространявшиеся на все население, происходили не раз. И дарование прав собственности дворянству при Екатерине, и отмена крепостного права при Александре II, и земельная реформа Петра Столыпина при Николае II были добровольными действиями власти, направленными на частичное ограничение собственных полномочий. В каждом из этих случаев режим собственности менялся радикально и вел к глубоким и долгосрочным последствиям, вполне революционным по масштабу.
Не исключено, что на каком-то новом историческом этапе и современное российское государство обнаружит, что не может двигаться дальше, не ограничивая себя. И тектонический правовой сдвиг, иначе говоря, революция сверху, произойдет снова. Конечно, сейчас это трудно себе представить, ведь в нашем случае это будет означать ситуацию, в которой элита добровольно поделится с обществом своей властью-собственностью. Более того, власть и собственность в результате перечисленных действий неизбежно будут разделены на два компонента. Это будут две отдельные сущности. И мы получим «капитализированное поколение» вместо «недокапитализированного», о котором мы говорили в главе 1. Новые обладатели собственности неизбежно будут платить больше налогов, но они станут и спрашивать больше с тех, кто тратит налоги. И у них будут работающие институты защиты своих прав.
Люди, представляющие российское государство сегодня, наверное, понимают и величие этой задачи, и последствия ее решения. Последствием будет то, что они перестанут быть властью в нынешнем русском смысле этого слова. И к ним у нового общества сразу же возникнут вопросы. В конце концов это неизбежно. Правительства и элиты могут меняться, а вопрос отсутствующего права собственности так и будет стоять над страной, пока не решится [36].
4. Русский титул
Забор в России, таким образом, – это символическая замена сразу нескольким институтам. В советское время каждому приходилось ждать и просить, доказывать, что он человек, у которого есть хоть что-то свое. Тоска по приватности, необходимой для утверждения чувства собственного достоинства, вырвалась наружу сразу после смены политического режима в 1991–1992 годах и не утолена до сих пор. Бетонные, кирпичные, металлические и решетчатые ограды высотой с трехэтажный дом выглядят как компенсация уязвимости и стремление дать миру знать, что все это – «мое».
Характерная особенность российских заборов, объектов вроде бы стационарных, в том, что они всегда находятся в движении. Заборы сгорали в пожарах, сносились властями, но скоро вырастали снова. Подвижность границ собственности граждане и власти всегда умели использовать к своей выгоде. Земли просто огораживались и становились чьими-то. Заборы в русских городах часто приходили в движение незадолго до строительства дорог или прокладки железнодорожных путей. Каждый дачник и сейчас знает, что ничего страшного не случится, если забор незаметно передвинуть поближе к дороге.
Многие столетия изгороди, межи и вехи были подвижными даже в Западной Европе. Европейские землевладельцы начиная с XV–XVI веков и вплоть до начала XIX века создавали свои состояния, огораживая, то есть попросту захватывая, общинные земли. Крестьян сгоняли с земель, чтобы пасти овец и продавать шерсть. Огораживание всегда было способом захвата земель – чужих или ничьих. Но рано или поздно изгороди прекращали двигаться по праву силы. В действие вступало защищенное законом право собственности.
Один из признаков развития общества – умение договариваться об общепризнанных правах, которые становятся важнее физического забора. А в отсутствие права забор остается самоценностью. Поэтому, сколько бетона ни возьми, в какую броню ни одень, в отсутствие права как верховного принципа это все равно будет непрочный забор.
И охрана не поможет, несмотря на то что по численности охранников Россия – одна из первых в мире. На 70 миллионов экономически активного населения у нас более 600 тысяч охранников – частных и ведомственных, не считая милицию (и это прогресс: в 2003 году численность охранников достигала миллиона) [37]. А, например, в Китае в охране служат около 2 миллионов людей, при десятикратной разнице в населении.
Есть и привычная нам проблема дверей, бо́льшая часть которых обычно закрыта. Советские архитекторы, проектируя общественные здания – министерства, театры, магазины и стадионы, всегда были щедры на двери. В идеальном мире, для которого они создавали огромные дома, люди должны были входить и выходить из дверей толпами. Они должны были литься широким потоком по гигантским лестницам. Дверей могло быть и пять, и десять, они могли быть огромными, деревянными с резьбой или металлическими с решетками.
Но в реальном мире по каким-то причинам всегда нужно было оставлять открытой только одну створку, утром и вечером, зимой и летом. Некоторые двери не открывались вообще никогда. Люди должны были проходить цепочкой, по одному, может быть для того, чтобы привратник всегда мог видеть, кто входит и выходит. Может быть, ему полагалось считать входящих и выходящих.
Для чего-то охранники сидят при каждом входе куда бы то ни было и целыми днями смотрят телевизор. При этом открытой обычно остается только одна дверная створка. Если это клуб или дискотека и входящие должны платить, то закрытые двери нужны, наверное, чтобы легче было контролировать поток. Остальные входы, несмотря на наличие охраны, обычно закрывают. Охранникам, естественно, гораздо удобнее сидеть всем вместе, около одной из дверей.
Двери остаются закрытыми, несмотря на то что давно нет никакой нужды ходить цепочкой. С проверкой пропусков неплохо справляется компьютерная программа. Милицию можно вызвать нажатием кнопки. Но компании готовы платить охране и пожарным: слишком важную задачу они решают. Это крепкая традиция: вход не должен оставаться без человеческого присмотра. Кто-то должен проследить, как мы протискиваемся через единственную открытую створку. Кто-то должен посмотреть на нас с подозрением при входе и потом мрачно проводить на выходе. Без этого подозрительного оглядывания и вход не вход. Маленький рубеж, государственная граница в миниатюре.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: