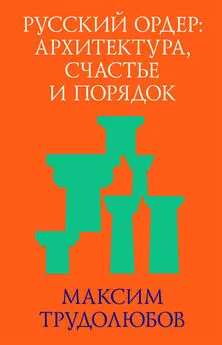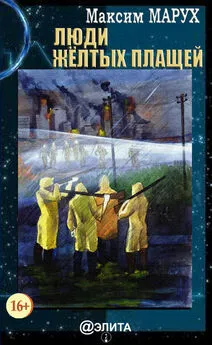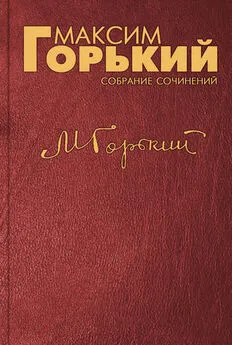Максим Трудолюбов - Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России
- Название:Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-196-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Трудолюбов - Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России краткое содержание
Книга редактора и колумниста «Ведомостей» Максима Трудолюбова «Люди за забором» – это попытка рассмотреть закономерности российской истории, проанализировать зависимость современной России от своего прошлого и подумать о способах преодоления этой зависимости в будущем, используя самый обыденный, но потому и самый неочевидный материал – устройство российского частного пространства – квартиры, дома, двора, забора – в его связях с политикой, экономикой, культурой и социальной жизнью.
Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Введение в России рыночного режима было по преимуществу «экономической реформой». Ею занимались экономисты, то есть, в советской логике, на которой по-прежнему основан государственный механизм в России, – технические специалисты. Специалисты должны были по готовым инструкциям собрать «новую экономику», в которой все работало бы как на Западе. Но установить главную деталь этого западного конструктора – верховенство права – экономисты просто не могли. Реформой занимались они, но ключевые перемены в сфере политики и права были за пределами их влияния. Они работали на правительство, а все, что связано с правоохранительной системой и судами, в России традиционно – «царская» сфера, то есть сфера контроля первого лица. Туда экономистов никогда не пускали и не пускают по сей день [301].
Всерьез надеяться на успех «рыночных реформ» 1990-х можно было только теоретически. Инклюзивная система управления, предполагающая подконтрольность власти и подчинение ее общему для всех закону, не возникает сверху, по воле правителя. Если оставить в стороне реформы, проведенные в результате насильственной оккупации, как это было, скажем, в послевоенной Германии и Японии, то можно утверждать, что либеральная демократия никогда не устанавливалась в результате обдуманных уступок благонамеренного правителя. Она, как мы видели раньше, является результатом конфликтов и торга между разными группами в обществе [302].
3. Правоохранение без права
У российского общества особые отношения с правоохранительными службами. Да, они давно уже нам не «начальники», а мы давно уже – граждане без кавычек, мы должны быть равны перед законом, нам конституцией обещано право на справедливый суд, но практика эти обещания опровергает. Наследие чрезвычайного подхода к правосудию, наследие «социалистической законности», для которого государственная целесообразность была важнее прав граждан, сказывается до сих пор.
Конечно, правоохранительная система в наше время вполне способна выполнять многие предписанные ей функции, но она не является автономным институтом. Не является, потому что с ее помощью решают свои проблемы и власти, и частные игроки. Управляемые приговоры и бесчисленные случаи использования права, особенно уголовного, для устранения соперников в бизнесе и приобретения имущества доказывают это слишком красноречиво.
Почему наша правоохранительная сфера – такая? Российская судебная система, несовершенная, но развивавшаяся благодаря реформам Александра II, была ликвидирована большевиками. По декрету «О суде» от 22 ноября (5 декабря) 1917 года прежние суды были заменены трибуналами и народными судами. При решении вопроса о виновности и правомерности действий они руководствовались законами «лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию». Отмененными считались законы, противоречащие декретам и программам социал-демократов и эсеров. Адвокатура, судебное следствие и прокурорский надзор были отменены, а полиция разогнана еще Временным правительством [303].
Однако советские спецслужбы требовали полномочий арестовывать и казнить людей, заподозренных в причастности к контрреволюции, без соблюдения «формальностей». Зампред Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Мартин Лацис говорил в 1919 году: «ЧК – это не суд, это – боевой орган партии. Она уничтожает без суда или изолирует от общества, заключая в концлагерь. Что слово – то закон» [304].
Гражданская война закончилась, но чекисты настаивали на необходимости сохранять чрезвычайные полномочия контроля над действиями и мыслями людей. На каждого интеллигента должно быть дело, партия должна подвергаться постоянной чистке – белогвардейцы, меньшевики, предатели виделись победившей партии всюду. В начале 1930-х годов были созданы тройки НКВД в составе начальника местного ОГПУ, начальника милиции и начальника следственного отдела прокуратуры, которые во внесудебном порядке могли отправлять за решетку «социально вредные элементы». Другие тройки, в составе начальника ГПУ, секретаря обкома партии и прокурора, решали вопросы о высылке в отдаленные местности «кулаков» и их семей. А в июне 1933 года была учреждена независимая от Наркомюста Прокуратура СССР. Она объединила сразу четыре функции: расследование преступлений, надзор за следствием, поддержка обвинения в суде и надзор за исполнением законов госорганами. Этот сталинский институт был частично демонтирован только несколько лет назад, с отделением Следственного комитета от прокуратуры. В результате из одного суперведомства родилось два ведомства, ведущих между собой позиционную борьбу за влияние. Оба при этом остались орудиями системы.
Параллельно государство расширяло круг потенциальных преступников и ужесточало наказания: 7 августа 1932 года, в период голодомора, Центральный исполнительный комитет СССР выпустил закон «Об охране имущества госпредприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности», названный народом «законом о пяти колосках», – по нему голодного крестьянина за вынос нескольких колосков или картофелин с колхозного поля могли приговорить к расстрелу или (при смягчающих обстоятельствах) к 10 годам лишения свободы.
В 1937 году ЦК ВКП(б) одобрил «физические методы воздействия», то есть пытки обвиняемых в государственных преступлениях. В январе 1939 года Сталин писал: «ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод» [305].
Самой серьезной попыткой «институционализации» правоохранительной сферы было и остается использование так называемой палочной системы. В своей основе она состоит из трех частей: количественные показатели (например, число совершенных, раскрытых или предотвращенных правонарушений), ожидаемое изменение этого показателя (рост или снижение) и его вес в оценке деятельности какого-либо правоохранительного подразделения [306]. Описание звучит вполне нейтрально, как будто перед нами просто система отчетности, но в реальности это не только отчетность, но и план. Существование «плана преступлений» заставляет правоохранителей скрывать или «генерировать» преступления, поскольку количественные показатели («палки») – основной критерий оценки их деятельности, в силу которой их наказывают или награждают.
О том, что эта практика глубоко порочна, хорошо знали еще советские власти. Постановления ЦК КПСС о работе милиции 1950–1980-х годов с незавидным постоянством фиксировали одни и те же недостатки: многочисленные произвольные задержания, избиения и пытки задержанных. Милиционеры избивали задержанных ради выполнения плана по раскрытию преступлений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: