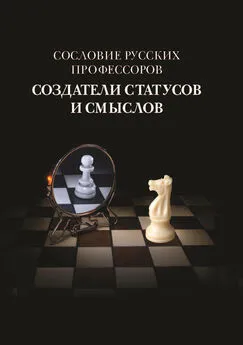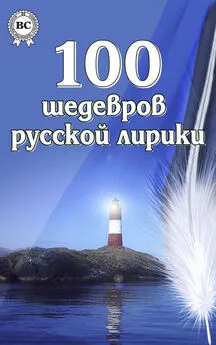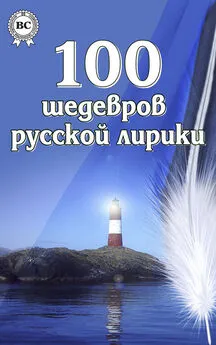Коллектив авторов - Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов
- Название:Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1046-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов краткое содержание
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся университетскими исследованиями и историей российской культуры. Она может быть использована в качестве учебного пособия для обучения на гуманитарных факультетах.
Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чтобы избежать таких произвольных интерпретаций и не навязывать протоколам желаемые смыслы, необходимо постоянно иметь в виду специфику российской интеллектуальной ситуации, в которой жил Московский университет, в которой действовала и вела записи своих заседаний его конференция.
К середине XVIII в. в Западной Европе конференции ученых корпораций давно стали частью повседневности [217]. Для России же это было новое учреждение, появившееся в 1725 г. вместе с Санкт-Петербургской академией наук (далее – АН). Прививка новой формы сообщества и управления им проходила с большими трудностями, что демонстрирует история академического университета. Тем не менее к 1755 г. внутри тандема академии и университета выросло целое поколение молодых ученых, знакомых с азами академического быта. Благодаря этому университет в Москве получил возможность использовать два различающихся опыта организации интеллектуальной жизни: приглашенных из Европы профессоров и петербургских ученых. Предполагалось, что отечественный опыт поможет усвоению и адаптации опыта импортированного.
Хотя Московский университет (пока в форме гимназии) открылся весной 1755 г., первое заседание его конференции (или, как ее еще называли, ученого совета или просто совета профессоров) прошло лишь 16 октября 1756 г., после приезда трех первых профессоров [218]. Согласно «Проекту о учреждении Московского университета», который составили М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов, профессора должны были раз в неделю [219](в присутствии директора) иметь «собирания, в которых советовать и рассуждать о всяких распорядках и учреждениях, касающихся до наук и лучшего оных произвождения» [220]. На основании сохранившихся протоколов можно понять, что куратор, живший в Санкт-Петербурге, рассматривался профессорами как удаленный председатель конференции (и «независимый арбитр») [221], отслеживающий ее деятельность по присылаемым документам [222].
В полномочия конференции входило руководство учебным процессом. «Проект о учреждении Московского университета» (§ 8) предусматривал утверждение на заседании профессоров учебника (источника) для преподавания каждого курса. Это положение отсылало к западной практике, но в нем имелась корректировка, отражающая российскую специфику: «каждый повинен последовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов (курсив мой. – И.К. ) предписаны будут» [223]. Это дополнение усилило права университетского куратора.
Директор и подчиненные ему асессоры образовывали канцелярию, ведавшую бюджетом, жалованьем преподавателей, закупками книг и инструментов. Она являлась аналогом печально известной своим формализмом и проволочками канцелярии Санкт-Петербургской академии. Впрочем, по замыслу Шувалова, университетский директор был не «только чиновник», он должен был знать «науки» (т. е. учитывать специфику заведения) и выполнять часть функций, которые в западных университетах были у ректора (присутствовать на заседаниях конференции, на экзаменах и вообще «науки учреждать») [224]. Это должно было защитить университет от бюрократизации. И действительно, подчиненная куратору канцелярия не получила той власти, какая была у канцелярских служащих АН. В этой связи Н.А. Пенчко даже предполагала, что университетской канцелярии как органа управления вообще не существовало [225].
Однако, судя по переписке в протоколах, канцелярия не только была, но и претендовала на монополию в управлении. Она действовала как инструмент контроля в самых разных сферах («для порядочных щетов и экономии», «принять рапорты от г[оспод] инспектора, ректора и пристава»), а также как дисциплинарный орган. Ее асессоры должны были наблюдать за расписанием, поведением и питанием студентов, за чистотой, за лазаретом, «чтоб не случилось пожара». Канцеляристы определяли пространственные координаты жизни учащихся (разделение на классы и уровни, дворян и разночинцев в столовых; устройство учебных помещений и разделение жилья казеннокоштных и своекоштных – в домашнем быту, распределяли учащихся на пансион и в «отборный» ректорский класс). Они структурировали время, деля его на учебное (классное и домашнее) и досуговое (прогулочное, праздничное и каникулярное). Канцелярские служащие (дворяне по происхождению) далеко не всегда считались со спецификой своего ведомства, они активно вмешивались в процесс преподавания и в научные вопросы, что порождало конфликты и противоречия.
В этом отношении история Московского университета может служить прекрасной иллюстрацией к высказыванию Мишеля Фуко: «государственной структуре при всем том, чт.е. у нее обобщенного, абстрактного, даже насильственного, не удавалось бы удерживать таким вот образом, непрерывно и мягко, всех этих индивидов… если бы она не использовала… все возможные мелкие локальные и индивидуальные тактики» [226]. Исследуемое университетское пространство было тем более дисциплинарным, что именно здесь формировались новые для российской культуры навыки поведения образованного человека: начиная от внешнего вида и манер и заканчивая ценностными ориентирами и идеалами [227].
Московский университет, однако, был структурой, не вписывавшейся ни в практику дворянского хозяйствования, ни в систему имперской сословной политики. С момента основания он имел особый правовой статус (и даже в документах именовался «новым местом»). Его документы и проблемы были отнесены к полномочиям Сената, но главной фигурой в нетвердой вертикали власти был «превосходительный господин куратор» (так звучало обращение к нему) – независимый арбитр, имевший право прямой апелляции к императрице.
Административный стиль куратора зависел от его личности и влиятельности при дворе. Образованный и близкий к императрице И.И. Шувалов занимал по отношению к университету позицию покровителя [228]. При этом он действовал в интересах просвещенного государства, а не науки как таковой. Именно этим объясняется его борьба с чиновниками за высокий статус императорского университета [229]. В одном из своих ордеров он рекомендовал университетскому директору подать на коллежских чиновников жалобу прямо в Сенат, обещая такой бумаге сопровождение и поддержку [230]. И хотя сам куратор мог лично конфликтовать с отдельными профессорами [231], он рассматривал такие противоречия как домашние. Плотной опекой он создал благоприятные условия для укрепления социального статуса профессорского сословия, но, похоже, лишил его опыта саморегуляции и отстаивания прав.
Шувалов корректировал недостатки тогдашнего государственного управления университетом личными распоряжениями и личными денежными средствами. Его ордера, направленные директору и канцелярии, выявляют практику такого рода. Эти тексты были типичными канцелярскими бумагами для того времени – деловой слог, в который вплетены фрагменты прямой речи автора [232]. Тем не менее после смерти своей покровительницы, императрицы Елизаветы Петровны, Шувалов был обвинен в небрежении к правилам делопроизводства и заменен В.Е. Адодуровым. Ревизия выявила, что, смешав кассы университета и подведомственной ему Академии художеств [233], доверяя канцеляристам (некоторые векселя оказались «не протестованными»), куратор выдавал деньги «не в силу указов » , «без поруки и без закладу».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: