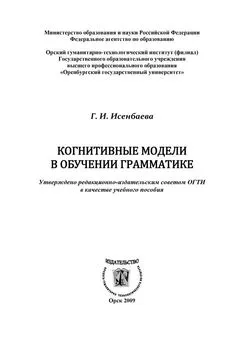Галина Исенбаева - Основы теории построения концептуального научного объекта «язык». Внешние и внутренние основания
- Название:Основы теории построения концептуального научного объекта «язык». Внешние и внутренние основания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент БИБКОМ
- Год:2008
- Город:Орск
- ISBN:978-5-8424-0407-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Исенбаева - Основы теории построения концептуального научного объекта «язык». Внешние и внутренние основания краткое содержание
Основы теории построения концептуального научного объекта «язык». Внешние и внутренние основания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теория языка говорит, что еще совсем недавно велись оживленные споры о том, можно ли считать язык знаковой системой. И в настоящее время есть ученые, которые с осторожностью говорят о естественном языке как знаковой системе либо вовсе не признают его таковым [37, c. 38-39].
В трудах семиотического толка проводится мысль о том, что обычно язык определяют через его функции, выделяя при этом только коммуникативное назначение: «Язык – это средство общения» или «Язык – это средство общения людей». Данные определения, может быть, и правильны в самом общем смысле, хотя здесь можно было бы многое прибавить и уточнить. Но такого рода определения абсолютно неоперативны без дальнейшей конкретизации. Детализации же общего положения столь многообразны и проводятся по столь многим направлениям, что получаемые результаты не стыкуются между собой. Так, определение языка как факта культуры не смыкается с его определением как предмета изучения в школе или как стимула в психологической деятельности.
По мнению семиотиков, «определение языка как знаковой системы гораздо правомернее в качестве общей «крыши» для всех его многообразных проявлений, нежели бытующие сейчас определения, сводящиеся к одной и, может быть, не самой важной функции языка. Принятие нового определения, связанного со знаковой природой языка, сделало бы его видовым для всех частных случаев» [167, c. 79].
Наше развитие этих идей заключается в следующем. Если мы построим искусственный объект под названием «язык», то он предстанет как семиотический объект, построенный «на пересечении нескольких кодов».
Изменение самого объекта изучения приведет к трансформации науки о нем.
Такой объект будет способствовать развитию у пользователя языка «всех типов деятельности с информацией, протекающей в мозгу человека»; он станет основанием для формирования способности осознанного, управляемого речевосприятия (смысловосприятия) и речепроизводства (смыслопроизводства) в соответствии с культурой мышления (т.е. приведет к появлению нового содержания в коммуникативной функции языка). Он обеспечит действительность научного языковедения и будет стимулировать дальнейшее развитие исследований когнитивной функции языка, открывая новые возможности для лингвистов в деле исследования «черного ящика» человеческого сознания.
Благодаря наличию в содержании дисциплины предмета обучения языку возникнут условия для регулярного решения проблем – смысловых задач или установления значений переменных (семантических предикатов), когда задан набор ограничений. Задачное содержание языкового обучения сблизит содержание, способы и психические продукты деятельности, осуществляемой на материале точного, естественнонаучного и гуманитарного знания. Решая смысловую задачу, то есть, осуществляя деятельность понимания через выполнение целесообразных действий, опирающихся на вычисление характера пропозиции (а таковая имеет место в любом предложении-высказывании в виде буквального значения предложения), обучаемый будет приходить к результату сам, а средством, служащим решению, явятся соответствующие мыслительные операции и рассуждения, опирающиеся на предметную область «язык». Проблемный (задачный) способ обучения языку, по сути, станет обучением когнитивной функции языка, вызывая к жизни целые комплексы системно-логических и предметно-специфических интеллектуальных (включая и речь) умений (например, применение совокупности методов изучения разнообразных типов языковых значений, выявление различных типов (частичных и целостных) семантических структур с учетом их «тел», учет и целевое планирование производства совокупности разноформатных репрезентаций, построение системы доказательств, обосновывающих достигнутое решение и т. д.), невостребованных при коммуникативном обучении.
Иными словами, возникнут условия для обучения языку через задачи для развития интеллекта как «целенаправленной действующей символьной системы, обладающей единым формальным аппаратом для представления декларативного знания» [82, c. 38]. Любопытно отметить, что с позиции обладателя концептуальной предметной области «язык» необходимым, полезным и естественным становится гносеологическое требование из сферы естественных наук, касающееся объяснения термина («а это и представляет собой определение понятия»). Объяснение термина позволяет нам понять данную вещь в ее глубочайшей сущности. Если в обычном словоупотреблении мы сначала ставим термин, а затем определяем его (например, «щенок – это молодой пес»), то в науке имеет место обратный процесс. Научную запись следует читать справа налево, отвечая на вопрос: как мы будем называть молодого пса, а не что такое щенок. Научные термины и знаки – не что иное, как условные сокращения записей, которые заняли бы гораздо больше места [35, c. 30-31].
В нашу задачу не входит вступление в дискуссию или проведение специального исследования, посвященного таким глобальным вопросам. Мы лишь стремимся обрисовать те конструктивные позиции, имеющиеся в семиотическом знании, которые мы заимствовали при формировании наших представлений и которые объективно привели нас к созданию системно-семиотических концептуальных образований.
Любопытно заметить, что основы семиотики закладывались в трудах философов и логиков классической древности (V в. до н.э.), которые не отделяли себя от геометрии, грамматики, риторики. К классикам современной семиотики относят философов, логиков, математиков (Чарлз С. Пирс, Чарлз У. Моррис, Умберто Эко); психологов (Жан Пиаже, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин); литературоведов (М. М. Бахтин, Ролан Барт, Ю. М. Лотман, Цветан Тодоров); антропологов и этнологов (Бронислав Малиновский, Клод Леви-Строс, Виктор Тэрнер); фольклористов (В. Я. Пропп, Е. М. Мелетинский, Г. Л. Пермяков); лингвистов (Фердинанд де Соссюр, Роман Якобсон, Вяч. Вс. Иванов, Б. А. Успенский); историков религий, культуры и искусств (П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Мишель Фуко, А. М. Пятигорский); режиссеров театра и кино (В. Э. Мейерхольд, С. М. Эйзенштейн, Пьер Паоло Пазолини); романистов и эссеистов (Хорхе Луис Борхес, Умберто Эко). Идеи и методы, персоналии и история русской семиотики подробно представлены в труде [150]. Различные направления семиотики, развивавшиеся на протяжении столетней истории дисциплины, описаны в фундаментальном труде [163].
Непосредственным предметом семиотики является информационная система, то есть система, несущая информацию, и элементарное ядро такой системы – знаковая система. Каковы бы ни были такие системы – действуют ли они в обществе, в природе или человеке (его организме, мышлении и психике), – они предмет семиотики [170, c. 5]. Здесь следует отметить, что такое понимание предмета семиотики полностью согласуется с применяемым в нашей работе философским понятием информации – гносеологических образов в чистом виде [1, c. 159-160] в качестве предмета лингвистики. Как отмечает Ю. М. Лотман, «всякий раз, когда мы имеем дело с передачей или хранением информации, мы можем ставить вопрос о языке этой информации» [99, c. 8].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: