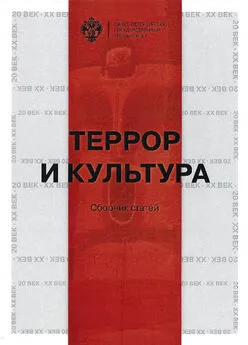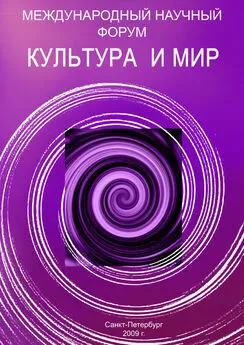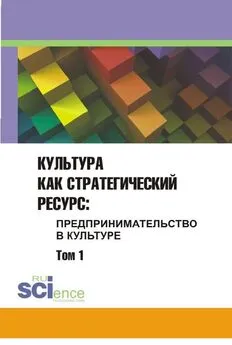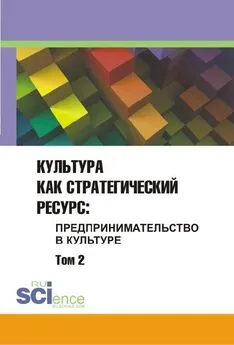Сборник статей - Террор и культура
- Название:Террор и культура
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05702-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник статей - Террор и культура краткое содержание
Книга представляет интерес для ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных вузов.
Террор и культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
21
Козырев Г. И. Конструирование «жертвы» как способ создания управляемой конфликтной ситуации // Социологические исследования. 2009. № 4.
22
Савчук В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб., 2013. с. 271.
23
Не случайно в отечественных школах в 1990-е гг. «Начальную военную подготовку» сменили на «Охрану безопасности жизнедеятельности» и сделали это отнюдь не только в рамках осуждения милитаризма. НВП со своим навыком метания гранат предполагает активные действия субъекта в экстремальной ситуации. ОБЖ учит в случае взрыва атомной бомбы ложиться головой к пеньку и охранять жизнь любой ценой.
24
Согласно Ф. Ницше, ressentiment представляет собой движущую силу реактивной воли к власти, базируясь на мощнейших деструктивных аффектах злопамятности и нечистой совести.
25
Жертвы часто осознают это. Дж. Агамбен приводит сообщения выживших узников немецких концлагерей, которые всю свою жизнь после освобождения при отсутствии оснований для вины были терзаемы непереносимым стыдом за то, что они выжили. Это был не только стыд за то, что они живы вместо других (иногда более достойных других: «лучшие не вернулись!»), но и за то, что опыт выжившего в концлагере – это опыт унижений, полной утраты человеческого достоинства. Поэтому многие из них попытались наладить некий мир с собой, выбрав миссию свидетельствовать во имя возмездия о нацистских преступлениях. Свидетельствовать за себя и за погибших. Агамбен приводит слова Жана Амери: «Для таких, как я, ресентименты как экзистенциальная доминанта являются результатом долгого личного и исторического развития… Мои ресентименты существуют для того, чтобы преступление сделалось моральной реальностью в глазах самого преступника, чтобы поставить его перед лицом истинности его злодеяния» [3, с. 107]. Современные жертвы террора собирают сами себя после катастрофического опыта благодаря аналогичной мотивации.
26
Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. СПб., 2010.
27
Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М., 2011.
28
Шмитт К. Политическая теология. М., 2000.
29
Агамбен упоминает понятие «бессмысленной жизни» или «жизни, недостойной быть прожитой», принадлежащее Биндингу и использовавшееся в качестве обоснования печально известной программы эвтаназии. Практическое открытие национал-социалистской биополитики заключалось в том, что это понятие, изначально применявшееся из гуманистических соображений к «безнадежно неполноценным» индивидам, оказалось при посредстве лагерной системы вполне применимо к биологическому телу любого человеческого существа [1].
30
Иваненко Е. А., Корецкая М. А., Савенкова Е. В. Архаическое и современное тело жертвоприношения: трансформация аффектов // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2012. № 2 (12).
31
Здесь не имеется в виду недостаток теоретической рефлексии. Тема жертвы, и особенно жертвоприношения, стала чуть ли не культовой в философии и антропологии XX в. Перипетиям данных исследований, столкновению разного рода интерпретаций в толковании смысла жертвоприношений посвящено очень любопытное диссертационное исследование А. В. Московского [8].
32
Этот психологический практикум описан в учебном пособии по общей психологии М. А. Одинцовой [9]. Ключевой вопрос был сформулирован следующим образом: «Как вы понимаете термин “жертва”? Какие ассоциации он у вас вызывает?» Кроме приведенных в нашем тексте вариантов ответа стоит упомянуть еще несколько: «Жертва – это существо, ставшее объектом поражения, унижения, каких-либо действий или природных катаклизмов»; «Жертва – тот, кто может отказать себе практически во всем, лишить себя даже жизни»; «Жертва – это попадание субъекта под влияние каких-либо негативных насильственных физических или психических воздействий других субъектов»; «Жертва – это человек, оказавшийся в тяжелой ситуации, которому нужна помощь»; «Жертва – это страдающий объект, у которого “нулевые” шансы на спасение».
33
Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. с. 416.
34
Петрученко О. Латинско-русский словарь. М., 1994.
35
Толковый словарь С. И. Ожегова // URL: http://www.ozhegov.org/words/8352.shtml.
36
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что в дальнейшем речь пойдет о реконструкции, а не о том, «как все было на самом деле». Данная реконструкция во многом основывается на моссовском толковании «жертвы» [7].
37
Из числа молодых римских солдат по жребию выбирался Сатурн, которому в течение месяца предоставлялась полная свобода удовлетворения всех своих чувственных влечений. По окончании месяца в канун праздника Сатурна на алтаре ему перерезали горло. И вот «в 303 г. н. э. жребий пал на солдата-христианина Дазия, который отказался играть роль языческого бога и запятнать распутством последние дни своей жизни». В результате его уныло обезглавили, и ритуал сошел на нет. Это исключение подтверждает правило, согласно которому жертва, по крайней мере в некотором отношении, идет на смерть добровольно [16, с. 653–658].
38
В обряде сати (самосожжение вдов) степень добровольности жертвы была во многом относительна, не говоря уже о факторе социального давления; во многих случаях вдову склоняли к смерти путем применения физической силы. Кроме того, сохранились свидетельства и описания, изображающие сидящую на сложенном погребальном костре женщину связанной, чтобы она не сбежала, когда костер будет зажжен. На одном из рисунков люди стоят вокруг костра с длинными шестами, чтобы помешать вдове выбраться из пламени. Безусловно, такого рода смещение в ритуальной практике свидетельствует о деформации смысла обряда; но здесь хотелось бы обратить внимание на важность самого факта проявления ритуального согласия жертвы, пусть и через симуляцию или символизацию. Собственно, именно это согласие поддерживало жертву в статусе агента жертвоприношения, не лишая ее активности, а, скорее, включая в динамику ритуала. Сам обряд довольно древний, восходит к жертве-парадигме Деви-Сати, жены Шивы. Еще один важный момент, красноречиво свидетельствующий о принципиальной разнице оценки одного и того же события с точки зрения различных культурных кодов, – некорректность применения термина «самоубийство» относительно обряда сати. Так, брахманы восхваляли сати как долг честной женщины и квалифицировали это не как самоубийство (которое запрещено и осуждается в сакральных текстах), а как акт священного почтения. В связи с этим многочисленные исследования сати как ритуального самоубийства (см., напр.: [14]) скорее демонстрируют оценку события с точки зрения идеалов гуманизма и не замечают разницы между самоубийством и самопожертвованием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: