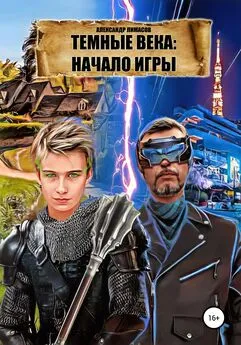Александр Несмеянов - На качелях XX века
- Название:На качелях XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Москвоведение
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-905118-63-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Несмеянов - На качелях XX века краткое содержание
Для широкого круга читателей.
На качелях XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лаборатория «II практикум»
Меня, оставленного при кафедре Н.Д. Зелинского (органической и аналитической химии), «поселили» теперь в сравнительно небольшую (имеющую шесть рабочих столов) лабораторию, на двери которой красовалась вывеска «II практикум» и которая была расположена в первом этаже, дверь в дверь с той комнатой — библиотекой, — где мы с Язвицким ночевали, исполняя свои бесплатные функции сторожей. Это была чрезвычайно удобная для работы комната, совершенно новая, с единственным недостатком: она имела всего один вытяжной шкаф и, значит, была мало приспособлена для работы с пахучими и ядовитыми веществами. Комната имела форму вытянутого прямоугольника с входом посредине длинной стороны, в ней находились три спаренные стола, расположенные перпендикулярно к этой длинной стороне, но не примыкавшие к стенам, а «островные». По стенам тянулись консоли для вспомогательной работы. Я был влюблен в эту прекрасную лабораторию и в свой рабочий стол. В течение всей жизни я часто видел во сне этот свой рабочий стол, и сон всегда был окрашен в грустные тона утраты.
Хозяйством кафедры ведал тогда А.П. Терентьев. На складах подвала под аудиторией было сосредоточено большое богатство реактивов Кальбаума [118] Кальбаум Йоханнес (1851–1909), владелец фирмы «C.A.F. Кальбаум», в 1890 г. создал новую химико-фармацевтическую фабрику в Берлине. Та часть компании, которая после Второй мировой войны оказалась на территории Восточной Германии, была преобразована в предприятие Берлин-Хеми AG.
, посуды Шотта и всякой лабораторной аппаратуры. Александр Петрович временами пускал нас — теперь уже не студентов, а научных работников — в эти пещеры Аладдина, и мы набрасывались на эти богатства, как воробьи зимой на хлеб. Многие из этих вещей служили мне потом долгие годы, а некоторые иногда снятся до сих пор: чудесный эксикатор с наклеенной на нем этикеткой «W. de Longuinoff, universitet de Laussanne» [119] «В. Лонгинов, Лозаннский университет» ( фр. ) см. сноску на с. 94.
и особенно изящная водяная баня конической формы с ирисовой диафрагмой, к которой я сам выдул стеклянный постоянный уровень. Эта чудесная баня служила мне верой и правдой лет десять. Получили мы из пещеры Аладдина и по набору укороченных термометров, и прекрасное шоттовское стекло, о котором (это уже в компании «сабанета») сочинили целую поэму, из которой помню такие строфы:
Стекла из Иены цвет зеленый —
Холодный и прозрачный цвет —
В моей душе, в него влюбленной,
Других сортов стекла уж нет.
Изящной колбы Шотта шейка,
Как шея лебедя стройна,
Бокал заздравный мне налей-ка,
За шейку выпью я до дна.
Южный крайний стол во «II практикуме» занимал тогда ассистент и мой учитель по органическому практикуму В.В. Лонгинов (фото 13). В это время он уже редко экспериментировал, но иногда писал за консолем или спрашивал студентов. Он поддерживал свое место в состоянии безупречной, сияющей чистоты, натирая линолеум стола сплавом воска и скипидара, до блеска протирая стекла шкафика. Vis-a-vis [120] Vis-a-vis ( фр .) — напротив, друг против друга.
к Лонгинову работал ассистент Борис Васильевич Максоров (фото 13) (оставленный при кафедре Челинцевым), начавший заниматься зарождающейся тогда областью пластмасс и искавший свои пути в науке. Следующий стол занимали последовательно во времени женщины — Е.М. Ряхина и Е.С. Покровская, не имевшие никакого официального положения в МГУ. Первая из них работала для зарождавшегося Института чистых реактивов. Vis-a-vis к этому столу был мой стол, однако на этом трехметровом столе мне принадлежала лишь половина, а вторая, рядом с входной дверью, была предоставлена другому «оставленному» — К.А. Кочешкову [121] Кочешков Ксенофонт Александрович (1894–1978) — химик-металлоорганик, академик АН СССР (1968). Бессменный редактор (совместно с А.Н. Несмеяновым) сборников «Синтетические методы в области металлоорганических соединений» (выходили в 1945–1949 гг.) и «Методы элементоорганической химии» (выходили в 1971–1978 гг.).
(фото 13), ныне академику. Спиной к нам располагался третий «оставленный» — Михаил Иванович Ушаков [122] Ушаков Михаил Иванович (?-1943) — доктор химических наук, заведующий лабораторией химии стеринов Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ).
(фото 13), а последний стол, рядом с вытяжным шкафом, был столом ассистента Бориса Александровича Казанского [123] Казанский Борис Александрович (1891–1973) — химик-органик, академик АН СССР (1946). Директор ИОХ АН СССР (1954–1966). Один из создателей научных основ нефтехимии и катализа.
(фото 13). Казанский, Ушаков, Кочешков, Покровская работали по тематике Н.Д. Зелинского. Я, разумеется, обязан был делать то же.
В это время преобладающим направлением работ в школе Зелинского (фото 13) были синтез и каталитические превращения углеводородов, обычным типом «вооружения» была каталитическая печь — стеклянная трубка с катализатором с асбестовой муфтой вокруг нее, содержащей регулируемый нагреватель. Все больше также входило в жизнь лабораторное исследование погонов нефти методом дегидрогенизационного катализа и установление таким образом наличия определенных гомологов циклогексана.
Н.Д. Зелинский имел обыкновение давать задание, отнюдь «не обрисовывая» его конечную цель, а только начальную фазу исследования: сделайте то-то, синтезируйте то-то, потом я вам скажу, что дальше. Здесь, вероятно, не было какой-либо скрытности, а просто, может быть, дальнейшее не всегда было вполне ясно и самому Николаю Дмитриевичу или могло измениться в зависимости от результатов соседа настолько, что не стоило его определять заранее. Ведь исследование — то же поле боя, и подчас диспозиция типа «…die erste Kolonne marschiert…» [124] «Первая колонна марширует…» ( нем .). Из романа «Война и мир» (1868) Л.Н. Толстого.
так же мало реальна в научной работе, как и в сражении.
Интересно, что Николай Дмитриевич не давал нам и литературных ключей к работе. Я, по крайней мере, сам открывал их для себя или узнавал от старших товарищей и Бейльштейна [125] Бейльштейн Федор Федорович (Фридрих Конрад) (1838–1906) — химик-органик, академик Петербургской АН (1886). Под его руководством издан (1881–1906) многотомный справочник по органическим соединениям.
, и Рихтера, и Штельцнера [126] Справочное издание Штельцнера Роберта (Stelzner R., Literatur-Register der organischen Chemie, 1921), в котором систематизирована литература за 1911–1921 гг.
, и Абегга [127] Абегг Рихард Вильгельм Генрих (1869–1910) — немецкий химик. Основоположник электронных представлений о валентности. Теория электровалентности Абегга заложила основу для более поздних электронных теорий химической связи.
, и Chemisches Zentralblatt [128] Chemisches Zentralblatt — старейший химический реферативный журнал, издавался в 1830–1970 гг.
. Особенно много давал мне А.П. Терентьев, работавший в маленькой комнатке лаборатории неподалеку от нас. Он был очень общителен и широк в своих интересах. Литература интересовала меня, однако, не в связи с заданиями Николая Дмитриевича. У меня в то время бродили мысли, связанные с ониевыми, в частности йодониевыми, соединениями и с псевдоэлементами. Они меня так поглощали, что я даже не могу сейчас вспомнить, какое задание в области катализа я получал от Зелинского.
Интервал:
Закладка:
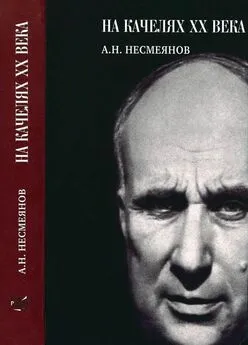
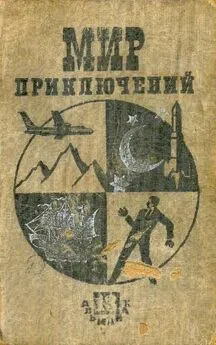
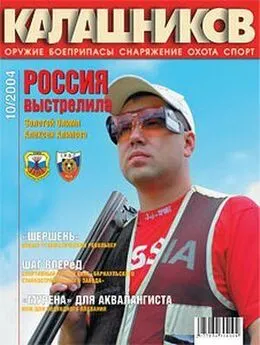

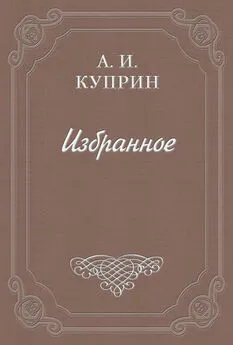
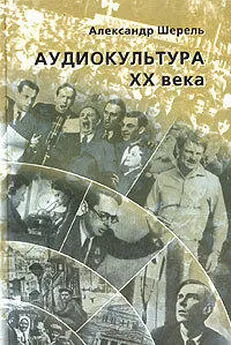


![Александр Исаченко - Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой [Об одном несостоявшемся варианте истории русского языка]](/books/1081890/aleksandr-isachenko-esli-by-v-konce-xv-veka-novgoro.webp)