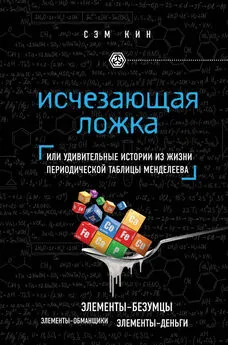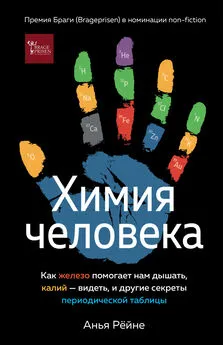Хью Олдерси-Уильямс - Научные сказки периодической таблицы. Занимательная история химических элементов от мышьяка до цинка
- Название:Научные сказки периодической таблицы. Занимательная история химических элементов от мышьяка до цинка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-113394-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хью Олдерси-Уильямс - Научные сказки периодической таблицы. Занимательная история химических элементов от мышьяка до цинка краткое содержание
Добро пожаловать на головокружительную экскурсию по страницам истории и литературы, науки и искусства! «Научные сказки» познакомят вас с железом, которое падает с неба, и расскажут о скорбном пути неонового света. Вы узнаете, как гадать на свинце и почему ваш гроб в один далеко не прекрасный день может оказаться цинковым. Вы обнаружите, что между костями вашего скелета и Белым домом в Вашингтоне есть самая прямая связь – как и между светом уличного фонаря и солью у вас на столе.
Жизнь человечества строится на химических элементах – от древних цивилизаций до современной культуры, от кислорода, о котором знают все, до фосфора в моче, о котором известно лишь специалистам. Они повсюду. «Научные сказки» раскроют их сенсационные секреты и расскажут о бурном прошлом, а читателя ждет увлекательное путешествие по шахтам и художественным студиям, по фабрикам и соборам, по лесам и морям, где он узнает всю правду об этих чудесных и загадочных строительных кирпичиках Вселенной.
Научные сказки периодической таблицы. Занимательная история химических элементов от мышьяка до цинка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хотя и прежде часто упоминалось о металлическом вкусе крови, объяснение этому нашлось лишь в середине XVIII столетия. Историю о том, как это произошло, редко вспоминают в анналах науки. Однако эксперимент сам по себе был довольно прост, и провел его впервые, по-видимому, болонский врач Винченцо Менгини около 1745 г. Он прожарил кровь нескольких млекопитающих, а также птиц, рыб и человека. Затем пошевелил плотные остатки магнитным ножом и с удовлетворением обнаружил, что частички крови пристали к ножу. Из пяти унций собачьей крови он получил почти целую унцию плотного материала, большая часть которого обладала магнитными свойствами. (Считается, что он получил примерно такие же результаты и с человеческой кровью, хотя в описаниях названных экспериментов и не говорится, каким способом он ее добыл.)
Упомянутый эксперимент очень просто повторить. Поместите в формочку столовую ложку крови (кровь для своего эксперимента я выжал из упаковки с замороженной куриной печенью) и частично выпарите ее на медленном огне. Рыхлый осадок поместите в небольшой тигель или в любой сосуд из тугоплавкого материала и продолжайте высушивать осадок на огне. Выскребите осадок и разотрите его до состояния крупного порошка, напоминающего кофейную гущу. Высыпьте порошок на лист бумаги и проведите над ним магнитом. Несколько частичек сразу же пристанут к магниту.
Такого результата и ожидал Менгини. Вопрос: на основании чего у него возникла мысль, что в крови должно присутствовать железо? Она могла возникнуть у него только потому, что ассоциация железа с Марсом, кровью и войной, зародившаяся еще в греческой и римской мифологии, настолько укоренилась в алхимической теории его времени, что людям, страдавшим от болезней крови, иногда прописывали соли железа. Дополнительным свидетельством того, что связь между железом и кровью была известна давно, служит тот факт, что одна из главных железосодержащих руд носит название «гематит» – слово, появившееся в XVI столетии. Корень «гем» – производный от греческого слова, означающего «кровь».
В ходе дальнейших исследований Менгини готовил составы с большим содержанием железа, которые давал людям и животным, после чего наблюдал повышение количества красных кровяных телец; так он доказал, что цвет крови связан с присутствием в ней железа. Своими исследованиями Менгини внес значительный вклад в объяснение и лечение хлороза, заболевания, при котором кожа становится бледной и приобретает зеленоватый оттенок, и только после этого болезнь получила свое нынешнее название «анемия», от древнегреческого «ан» (приставка со значением отрицания) и «(г)ем» (кровь), что означает в сумме означает «бескровный».
Связь железа с Марсом начиналась не менее запутанным образом. Было вполне естественно для мистиков и философов искать связи между солнцем, луной и пятью видимыми планетами и сходным числом известных с древности металлов. Но при отсутствии развитой металлургии невозможно было решить, какие металлы чистые, а какие – смесь. Как следствие, латунь, бронза и сплавы, используемые для производства монет, часто помещались на один уровень с золотом, серебром, свинцом и оловом, а особый алхимический статус ртути означал, что поначалу ее вообще не связывали ни с какой планетой. В Персии железо первоначально ассоциировалось с Меркурием. Лишь значительно позже западные алхимики связали Меркурий с ртутью, а железо – с Марсом.
Когда впервые возникла мысль, что у Марса может быть некая более материальная связь с железом? Изобретение спектроскопа в 1859 г. позволило ученым проанализировать свет, исходящий от светящихся тел, что привело к открытию нескольких новых элементов – их определили с помощью цветов пламени, возникающем при их горении. Спектр подобен радуге, в которой всякий раз представлены разные сочетания цветовых полос. У каждого элемента свой характерный спектр, возникающий в результате особых характеристик поглощения и излучения света, что является следствием свойств энергетических уровней электронов, вращающихся по орбитам вокруг ядра атома. Первые спектроскопы, однако, были чувствительны только к световому излучению, исходящему от лабораторного пламени или от солнца. Они не могли дать никакой информации о свете, отраженном от несветящихся объектов. Ученые, конечно, могли выдвигать гипотезы, что красная планета богата железной рудой, но возможностей обосновать это было не больше, чем доказать, что луна сделана не из сыра. А в тот период, когда они могли бы начать с большей эффективностью изучать названный вопрос – в последние годы XIX столетия, – многих из них отвлекли белые, похожие на земные, полярные шапки и предполагаемые «каналы», покрывавшие его поверхность.
И только после того, как космические аппараты – «Викинг» в 1976 г. и «Пасфайндер» в 1997 г. – долетели до Марса, появилась возможность объяснить происхождение его цвета. Вместо ожидаемого светло-голубого оттенка от разреженной атмосферы небо на Марсе оказалось цвета ириски из-за частых пыльных бурь. Поверхность планеты покрыта мелкой пылью минерала лимонита – разновидности оксида железа. Последние данные с аппаратов, исследовавших Марс, свидетельствуют: содержание железа на поверхности планеты значительно выше, чем в коре, что в свою очередь говорит о том, что железо, скорее всего, имеет метеоритное происхождение, а не является результатом вулканических выбросов вещества мантии на поверхность.
Редко случается, что наука находит подтверждение древним суевериям. Однако с железом это произошло дважды: первый раз с подтверждением его присутствия в крови, второй раз – на Марсе.
В наше время при упоминании о железе на ум сразу же приходят не вызывавшие религиозное поклонение метеориты и не волшебные мечи, а технические достижения Промышленной революции. Римляне широко использовали железо для изготовления оружия, различных инструментов и сооружений, но лишь после 1747 г., когда впервые было установлено, как при добавлении угля к железу можно получать сталь, использование железа далеко обгоняет все остальные металлы. В 1747 г. Ричард Форд, унаследовавший литейный цех Абрахама Дарби в Шропшире, показал, как можно, варьируя количество кокса или угля, добавляемого к руде, выдавать более хрупкое или, наоборот, более прочное железо. Возможность регулировать свойства металла, ставшая результатом добавления к нему небольшого количества углерода, позволила производить металл для самых разных сфер использования, от несущих конструкций больших мостов, до шестеренок и колес паровых двигателей и прядильных машин.
Наиболее ярким, экстравагантным и популярным воплощением нового «железного века» стала железная дорога – новшество, связь которого с железом отмечена практически во всех языках, кроме английского: chemin de fer, Eisenbahn, via ferrea, järnväg, tetsudou . Железо таким способом прославило себя гораздо эффективнее, чем это когда-либо могло сделать золото в прошлом или кремний в будущем. Поэты той поры, естественно, воспринимали Промышленную революцию как разрушительную силу, а железо – как главный символ рабства у техники, важнейшего следствия названной революции. Уже в 1728 г. Джеймс Томсон, шотландец, прославившийся созданием слов к гимну «Правь, Британия», оплакивал утрату поэтического золотого века в «наши железные времена». Поэма Блейка «Иерусалим» пронизана темой дьявольского железа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
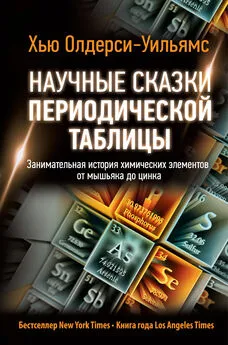



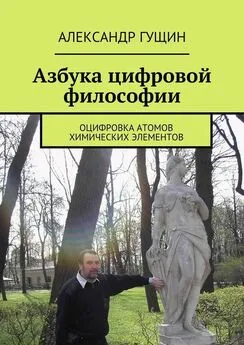
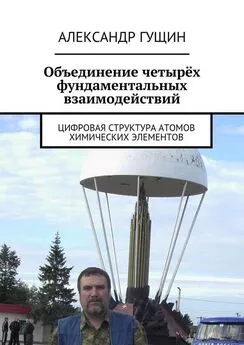
![Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]](/books/1063991/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori.webp)