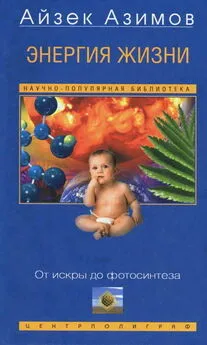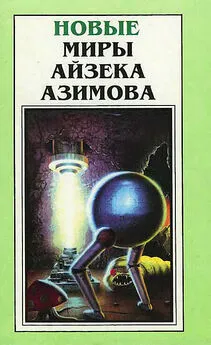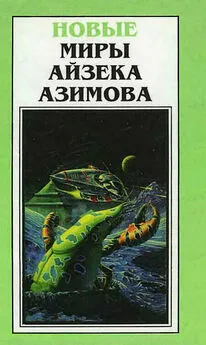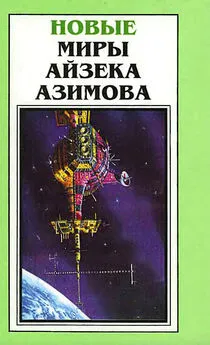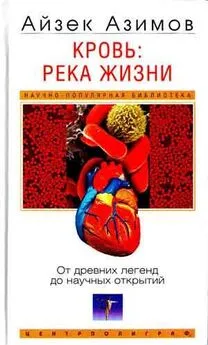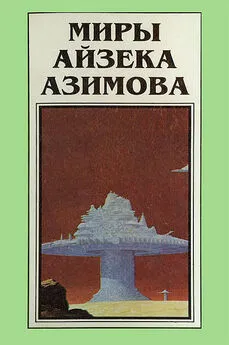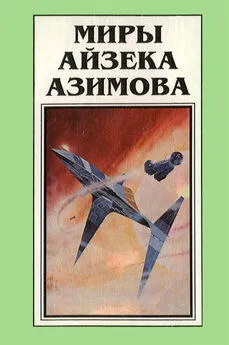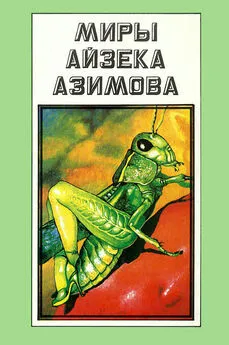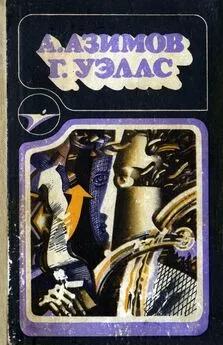Айзек Азимов - Энергия жизни. От искры до фотосинтеза
- Название:Энергия жизни. От искры до фотосинтеза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2007
- Город:М.
- ISBN:978-5-9524-2590-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Айзек Азимов - Энергия жизни. От искры до фотосинтеза краткое содержание
В этой книге Азимов рассказывает о том, как люди научились использовать энергию — сумели заставить работать на себя огонь, воду, ветер, пар, электричество и солнце. Большое внимание уделено изобретениям, открывшим новые источники энергии, распахнувшие перед человечеством двери новой эпохи. Автор также увлекательно повествует о том, как вырабатывается энергия в живых организмах, какие процессы происходят на уровне молекул в органической и неорганической материи.
Энергия жизни. От искры до фотосинтеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ясно, что если общее количество тепла во Вселенной ограниченно, а энтропия продолжает возрастать, то в конце концов она достигнет максимума, то есть такого состояния, что никакой разности температур не будет вообще. Вся энергия во Вселенной станет недоступной для совершения работы — все спонтанные процессы прекратятся и какие-либо изменения перестанут происходить вообще. Эта картина получила название «тепловая смерть Вселенной», и теория о тепловой смерти приобрела большую популярность во второй половине XIX века.
Теперь давайте вернемся к началу нашего повествования и посмотрим, можно ли выразить в терминах термодинамики то различие между живой и неживой материей, которое я высказал в первой главе. Я сказал, что живые существа могут совершать усилия, а неживые — нет.
Понятно, что «совершение усилия» подразумевает локальное уменьшение энтропии. Для того чтобы опустить висящий в воздухе камень вниз, усилия не требуется — его достаточно отпустить, и он упадет. А вот для того, чтобы поднять его вверх, усилие необходимо.
Сам по себе камень может двигаться только вниз, в том направлении, где усилия не нужно. Он не может совершить усилие, чтобы подняться наверх. С точки зрения термодинамики это будет звучать так: камень сам по себе может быть подвержен только увеличению энтропии, но не ее уменьшению.
Живой же организм способен совершать усилия по уменьшению энтропии по крайней мере на одном участке системы, частью которой он является (разумеется, за счет еще большего ее увеличения в других частях системы). Даже простейшие живые существа способны создавать локальное уменьшение энтропии, когда они прыгают, летят, лезут, идут, ползут или плывут вверх, против силы притяжения. Даже не сдвигающиеся с места организмы, например устрицы, тоже могут производить локальное уменьшение энтропии различными другими способами.
Удовлетворимся ли мы заявлением, что различие между живыми и неживыми организмами заключается в том, что живые организмы могут производить локальное уменьшение энтропии, а неживые — нет?
Что ж, выдвинув это утверждение, мы явно встали на верный путь, но, к сожалению, такого определения пока недостаточно. Солнечное тепло тоже может вызывать локальное уменьшение энтропии, когда выпаривает воду из океана, то есть поднимает в воздух огромные массы водяного пара. Силы, задействованные в геологических процессах, происходящих в земной коре, способны воздвигать горы в несколько миль высотой, что тоже подразумевает масштабное уменьшение энтропии. Однако ни Солнце, ни Земля не являются живыми ни в одном из смыслов, которые вкладывает в это понятие человек.
Надо еще поработать над нашим определением. Итак, продолжим.
Глава 6.
ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИЦЫ
Еще со времен Джоуля, Кельвина, Майера, Гельмгольца и Клаузиуса, со времен открытия двух великих законов термодинамики, точного представления о том, что же такое тепло, не существовало. По крайней мере, такого, которое удовлетворило бы работающих с теплом ученых.
Это совершенно не означает, что законы термодинамики неполноценны, — они основаны на наблюдениях и не зависят от природы тепла. Однако с практической точки зрения этот факт осложнял применение законов термодинамики к каким-либо иным энергетическим устройствам, кроме тепловых машин, — к тем, где отсутствует тепловой поток.
Например, человеческий организм — главный предмет рассмотрения данной книги — определенно работает, и при этом температура его (37 °С) однородна и постоянна.
Разве это не является нарушением второго закона термодинамики? Мы уверены, что не является, но для того, чтобы четко понимать, почему именно не является, надо понять новую концепцию тепла как такового, выдвинутую впервые около 1800 года, а окончательно принятую научным сообществом только в 1860 году.
Начнем с того, что среди прочих над природой тепла размышляли и такие ученые, как Галилей и Ньютон. Они (и не только они) представляли себе тепло как движение мельчайших частиц материи. Для них это было вполне естественное предположение, поскольку эти великие ученые, исследуя в первую очередь законы движения и представляя тепло одной из форм движения, стремились вписать его в рамки своих грандиозных обобщений.
Однако в XVIII веке принято было представлять тепло как невесомый нематериальный ток. Такую точку зрения впервые выдвинул голландский физик Герман Бургаве примерно в 1700 году. В общем-то никаких объективных причин считать, что тепло представляет собой движение или вибрации, либо предполагать, что в горячих телах это движение или эти вибрации происходят быстрее, чем в холодных, не было. Разговоры о том, что, мол, существуют некие микрочастицы, слишком маленькие для того, чтобы их можно было увидеть, и вибрирующие слишком быстро и малоамплитудно для того, чтобы это можно было заметить, дети «эпохи рассудка» могли воспринимать только как заумную фантасмагорию.
Точнее говоря, в 1738 году профессор-математик из Санкт-Петербурга, столицы России, которого звали Даниил Бернулли, показал, что если представить газы состоящими из крошечных частиц, то из этого можно сделать вывод, что за давление газа отвечает движение этих частиц. Более того, предложенная им математическая модель, при которой скорость этих частиц возрастает по мере повышения температуры, в точности описывала реальные данные наблюдений. Однако его современники сочли эту теорию не более чем забавной спекуляцией. Большинство ученых предпочли принять на вооружение теорию теплорода — невесомого флюида, содержащегося в веществах, поскольку уже тогда было известно (по крайней мере, в представлении общественности) немало подобных флюидов в других областях: свет, электричество, магнетизм и т. п. Все были уверены в существовании такого явления, как «флогистон», — считалось, что его испускает в воздух любое вещество, сгорая или ржавея. Почему бы теплу не быть чем-то подобным? Так и сочли, и флюид тепла получил название «теплород».
Представление об одном из таких флюидов было торжественно похоронено в 1770-х годах, когда Лавуазье опроверг гипотезу о существовании флогистона, заменив ее тем представлением о природе горения и ржавления, которое мы разделяем и сейчас. Он показал, что при этих процессах не теряется или приобретается флогистон, а происходят химические реакции с содержащимся в воздухе кислородом. Однако существование теплорода тот же Лавуазье подтвердил, подкрепив эту теорию собственным авторитетом величайшего химика своего времени. Благодаря его заступничеству теория теплорода продержалась еще полвека, несмотря на лавинообразный рост фактов, свидетельствующих против нее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: