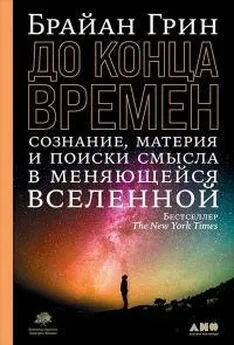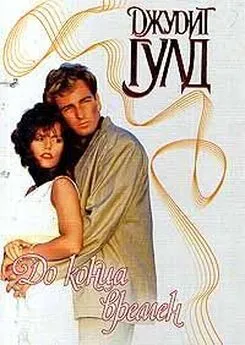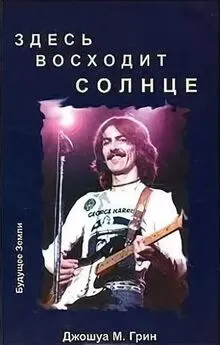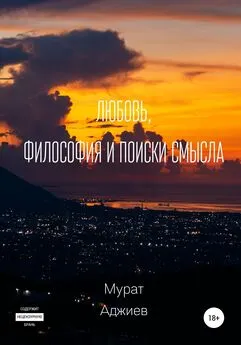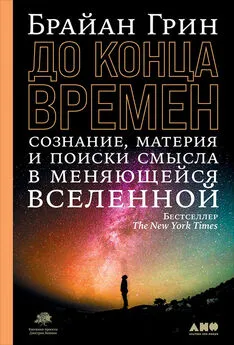Брайан Грин - До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной
- Название:До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АНФ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Брайан Грин - До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной краткое содержание
«До конца времен» — попытка поиска места для человека в картине мира, которую описывает современная наука. Грин показывает, как в противоборстве двух великих сил — энтропии и эволюции — развертывается космос с его галактиками, звездами, планетами и, наконец, жизнью. Почему есть что-то, а не ничего? Как мириады движущихся частиц обретают способность чувствовать и мыслить? Как нам постичь смысл жизни в леденящей перспективе триллионов лет будущего, где любая мысль в итоге обречена на угасание?
Готовые ответы у Грина есть не всегда, но научный контекст делает их поиск несравненно более интересным занятием.
До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разумеется, я также не в силах объяснить многие другие вещи с твердой редукционистской позиции, от тихоокеанских тайфунов до извергающихся вулканов. Но задача объяснения этих событий, а также других подобных примеров, которыми буквально напичкан этот мир, сводится к тому, чтобы описать сложную динамику фантастически огромного количества частиц. Если бы мы имели техническую возможность это сделать, задача была бы решена 19. Это потому, что внутреннего ощущения типа «каково быть» тайфуном или вулканом, не существует. У тайфунов и вулканов, насколько нам известно, нет субъективного мира внутреннего опыта. Не может оказаться, что нам не хватает рассказа от первого лица. Но для всего, что обладает сознанием, наше объективное описание от третьего лица оказывается неполноценным.
В 1994 г. молодой австралийский философ Дэвид Чалмерс с длинными, до плеч, волосами вышел на сцену ежегодной конференции по сознанию в Тусоне и назвал эту неполноценность «трудной проблемой» сознания. Это не значит, что «простая проблема» — понимание механики мозговых процессов и ее роли в сохранении воспоминаний, реакции на стимулы и формирование поведения — на самом деле проста. Это значит лишь, что мы можем представить себе, как примерно должно выглядеть решение такого рода проблем; мы можем сформулировать принципиальный подход на уровне частиц или более сложных структур, таких как клетки и нервы, который кажется разумным и органичным. Именно невозможность представить себе такое решение для сознания подвигла Чалмерса высказать свою оценку. Он утверждал, что нам не просто не хватает мостика от лишенных сознания частиц к осознанному опыту; он говорил, что, попытавшись построить такой мостик при помощи редукционистского сценария с использованием частиц и законов, составляющих фундамент физической науки в том виде, в каком мы ее знаем, мы потерпим неудачу.
Это заявление задело чувствительную струну — кому-то ее звук показался гармоничным, кому-то резким и неблагозвучным. С тех пор эхо этой струны слышно во всех исследованиях, посвященных сознанию.
Посмеяться над трудной проблемой несложно. В прошлом я и сам мог бы так на нее отреагировать. Когда меня спрашивали, я часто отвечал, что сознательный опыт — это всего лишь то, что мы чувствуем, когда в мозге происходит обработка информации определенного типа. Но поскольку главная задача — объяснить, как вообще можно что бы то ни было «ощущать», такой ответ слишком поспешно отбрасывает трудную проблему, объявляя ее не трудной и вовсе даже не проблемой. Говоря мягче, такая реакция солидаризуется с широко распространенным мнением, согласно которому мыслям придается слишком большое значение. Если некоторые адепты трудной проблемы утверждают, что для того, чтобы понять сознание, нам придется вводить концепции, выходящие за рамки традиционной науки, другие — так называемые физикалисты — предсказывают, что для решения этой задачи достаточно будет хитроумных и творчески примененных методов традиционной науки, задействующих исключительно физические свойства материи. Так вот, физикалистская точка зрения совпадает и с моими давно сложившимися взглядами.
Тем не менее когда я пытался тщательнее обдумать вопрос сознания, я временами испытывал серьезные сомнения. Самым ошеломляющим был момент, когда я наткнулся на весьма убедительное рассуждение, выдвинутое философом Фрэнком Джексоном за десять лет до того, как трудную проблему окрестили трудной20. Джексон рассказывает простую историю, которая в слегка драматизированном виде выглядит примерно так. Представьте, что в далеком будущем живет очень умная девушка Мэри, совершенно не различающая цвета. С самого рождения все в ее мире окрашено исключительно в черно-белые тона. Ее заболевание ставит в тупик самых известных врачей, так что Мэри решает самостоятельно во всем разобраться. Мечтая вылечиться, Мэри много лет проводит за интенсивными исследованиями, наблюдениями и экспериментами. В результате она становится величайшим нейробиологом, какого только знал мир, и достигает цели, долгое время не дававшейся человечеству: она выясняет все до мельчайших подробностей о структуре, функции, физиологии, химии, биологии и физике мозга. Она узнает абсолютно все, что можно узнать о механизмах работы мозга — как в плане общей его организации, так и в плане микрофизических процессов. Она понимает все про нейронные срабатывания и каскады частиц, возникающие, когда мы любуемся голубым небом, лакомимся сочным фруктом или забываемся, слушая Третью симфонию Брамса.
Достигнув таких успехов, Мэри отыскивает способ исцелить свой зрительный недостаток; она проходит соответствующую хирургическую процедуру. Проходит несколько месяцев, и доктора готовы снять бинты, а сама Мэри готовится увидеть мир заново.
Замерев перед букетом красных роз, она медленно открывает глаза. И вот вопрос: увидев впервые красный цвет, узнает ли Мэри что-нибудь новое для себя? Испытав, наконец, внутреннее переживание цвета, получит ли она новое понимание?
Если смоделировать мысленно эту историю, покажется совершенно очевидным, что в самый первый раз, получив внутренний опыт созерцания красного, Мэри почувствует себя ошеломленной. Она будет удивлена? Да. Взволнована? Конечно. Тронута? Глубоко. Кажется очевидным, что первый непосредственный опыт цвета расширит ее представления о человеческом восприятии и внутреннем отклике, который он может вызвать. Джексон предлагает нам рассмотреть возможные следствия из этой обычной для всех, в общем интуитивной, позиции. Мэри овладела всем, что можно знать о физических механизмах работы мозга. И все же этот единственный взгляд, очевидно, позволил ей расширить это знание. Она получила знание о сознательном опыте, сопровождающем отклик мозга на красный цвет. Каков же вывод? Существует нечто и помимо полного знания о физических механизмах работы мозга. Знание не в состоянии выявить или объяснить субъективные ощущения. Если бы такое физическое знание было всеохватным, Мэри сняла бы с глаз бинты и пожала плечами.
Прочитав впервые этот рассказ, я почувствовал внезапное родство с Мэри, как будто я тоже пережил корректирующую операцию и открыл недоступное мне прежде окно к природе сознания. Моя прежняя непринужденная уверенность в том, что физические процессы в мозге и есть сознание и что сознание и есть ощущение таких процессов, была внезапно поколеблена. Мэри знала все, что только можно знать обо всех физических процессах мозга, и все же из приведенного сценария кажется очевидным, что такое понимание неполно. Получается, что, когда речь заходит о сознательном опыте, физические процессы только часть истории, а не вся история целиком. Когда статья Джексона только вышла, задолго до моего знакомства с ней, специалисты тоже возбудились, и в следующие десятилетия история Мэри вызывала многочисленные отклики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: