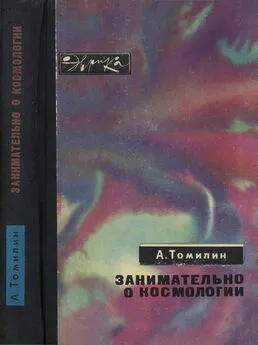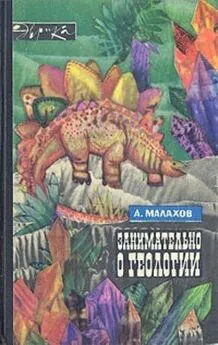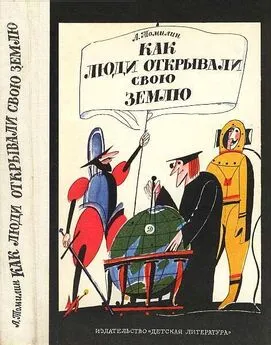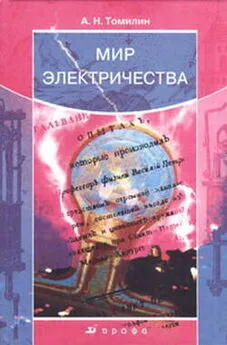Анатолий Томилин - Занимательно об астрономии
- Название:Занимательно об астрономии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Томилин - Занимательно об астрономии краткое содержание
Попробуйте найти сегодня что-нибудь более захватывающее дух, чем астрономические открытия. Следуют они друг за другом, и одно сенсационнее другого.
Астрономия стала актуальной. А всего двадцать лет назад в школе она считалась необязательным предметом.
Зато триста лет назад вы рисковали, не зная астрономии, просто не понять сути даже обычного светского разговора. Так он был насыщен не только терминологией, но и интересами древней науки.
А еще два века назад увлечение звездами могло окончиться для вас… костром.
Эта книга — об астрономии и немного об астронавтике, о хороших астрономах и некоторых астрономических приборах и методах. Словом, о небольшой области гигантской страны, в основе названия которой лежит древнее греческое слово «astron» — звезда.
Занимательно об астрономии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2. Начало научной космогонии
Середина XVIII века ознаменовалась сразу двумя событиями. Первое: русский ученый Михайло Ломоносов сформулировал закон сохранения вещества и одновременно пришёл к выводу, что мир не есть нечто незыблемое, сотворенное богом раз и навсегда, а наоборот — система, непрерывно меняющаяся под действием сил, развивающаяся по законам природы. И второе: молодой немецкий философ Иммануил Кант выдвинул новую гипотезу возникновения небесных тел из частиц, облаком окружавших светило. Кант считал, что хаотическое движение частиц со временем упорядочилось, и тогда под действием сил притяжения вся эта карусель «закружилась, завертелась и помчалась колесом». А уж из вращающейся туманности впоследствии образовались постепенно планеты.
Что здесь важно, в этой гипотезе, и почему мы ее помещаем рядом с выводами Ломоносова?
Ломоносов и Кант впервые отошли от старого, метафизического взгляда на мир, когда все явления рассматривались в отрыве друг от друга, застойно, без исторического подхода. Ломоносов и Кант подарили науке историю. С этой точки зрения взгляды обоих ученых открывают новую эпоху в науке, несмотря на то, что, опередив свое время, идеи Ломоносова и Канта на целое столетие легли на полки архивов.
Впрочем, пятьдесят лет спустя Наполеон Бонапарт, совершив переворот 18 брюмера и став первым консулом Франции, получил от некоего Лапласа книгу «Изложение системы мира». Существует предание, что содержание ее заинтересовало консула. Не удивляйтесь. В те далекие времена у политиков, занимающих даже высшее положение в государстве, находилось время для чтения научных книг. (Наверное, их — книг — было меньше.) Так вот, Наполеон вызвал автора — молодого профессора Парижской военной школы Пьера Лапласа на Елисейские поля и заметил:
— Ньютон в своей книге говорит о боге. Я уже просмотрел вашу, но ни разу не встретил его имени.
— Гражданин Первый консул, — ответил Лаплас, — я в этой гипотезе не нуждался.
Красивый ответ принципиального человека. Как жаль, что слова были произнесены именно устами Лапласа! Именно потому, что французский астроном, математик и физик, член Парижской академии наук и убежденный материалист, никогда не изменявший научным принципам, в политике представлял собой образец беспринципности. Может быть, сказалось воспитание. Обучаясь в школе монахов ордена бенедиктинцев, Лаплас кончил ее атеистом. Он жил в бурное время. И при каждом политическом перевороте ухитрялся перейти на сторону победителей, оставаясь постоянно на гребне политической жизни Франции. Ревностный республиканец времен Директории, Лаплас после прихода к власти Наполеона Бонапарта стал столь же ярым приверженцем диктатуры и получил пост министра внутренних дел. А когда 18 мая 1804 года Наполеона I провозгласили императором, Лаплас поспешил поздравить бывшего Бонапарта. И, получив из рук императора титул графа, стал вице-председателем сената. Правда, в 1814 году он также поспешно подал свой голос за низложение Наполеона. А после реставрации Бурбонов обнаружил прилив роялизма и получил пэрство и титул маркиза. Удивительная судьба!
Не прерывая бурной политической деятельности, Лаплас написал множество великолепных научных работ. Причем умудрился в небесной механике завершить почти все, что не удалось сделать его предшественникам в объяснении движения планет солнечной системы. Его гипотеза происхождения планет похожа на кантовскую, но Лаплас с самого начала принял аксиомой вращение туманности. Остывая, она сжималась, а сжимаясь, начинала вращаться быстрее. Под влиянием центробежной силы туманность сплющивалась, принимая форму диска. В конце концов сила тяготения на краю туманности сравнялась с центробежной силой. И в огромном облаке образовалось первое кольцо. Потом — второе, третье… И так по числу планет нашей системы.

Гипотеза продержалась до начала девятисотых годов. Потом появились первые сомнения. Главное из них заключалось в том, что Солнце не могло быстро вращаться. А при медленном вращении кольца не конденсировались в планеты. Кроме того, математики пришли к выводам, что даже если встать на точку зрения Лапласа, то туманности — «зародыши планет» — должны вращаться в обратном направлении.
Гипотезу Лапласа стали исправлять, видоизменять и доизменялись до тех пор, пока всем не стало ясно, что от теории сгущения газовых колец нужно отказаться вообще. XIX век был, пожалуй, самым богатым на новые и смелые гипотезы о происхождении миров. Мы не станем их описывать. Все они оставлены в архиве науки.
Следующей гипотезой, оказавшей большое влияние на развитие космогонических взглядов, была теория, выдвинутая в 1916 году английскими астрономами Джинсом и Джефрисом. Заключалась она в том, что звезда, проходившая на расстоянии двух-трех солнечных радиусов от нашего светила, вырвала своим полем тяготения из недр Солнца большой сигарообразный сгусток вещества. Из этой «сигары Джинса» и образовались наши планеты. На концах, где «сигара» тоньше, — малые тела, а посредине — крупные: Юпитер и Сатурн.
Пятнадцать лет гипотеза Джинса — Джефриса пользовалась бесспорным успехом. Потом начались неприятности.
Прежде всего сомнения вызвало основное допущение — встреча двух звезд. Вероятность ее настолько мала, что за 5 миллиардов лет во всей нашей Галактике могло произойти не более одной-двух таких встреч. Если же предположить, что такая участь выпала как раз на долю нашего Солнца, то планетная система должна быть явлением поистине уникальным. Между тем астрономы настойчиво утверждают, что примерно 20 процентов звезд окружены роем планет.
Следующее затруднение возникло после опубликования доказательств, что вещество, выброшенное из недр Солнца, должно рассеяться, образовав вокруг светила газовую туманность, а не конденсироваться в планеты.
И наконец, последняя трудность оказалась связанной с распределением моментов количества движения Солнца и планет.
Момент количества движения планеты равен произведению массы тела на скорость ее движения по орбите и на радиус орбиты. Момент количества движения неизменен. Он не увеличивается, не уменьшается в каждой системе, не преобразуется в другие виды энергии. Он может только передаваться от тела к телу, перераспределяться между телами, образующими изолированную систему. Если планеты образовались из Солнца, то они, естественно, должны были унаследовать и часть его момента количества движения. Часть! Заметили?
Между тем измерения показали, что на долю планетного семейства, обладающего ничтожной по сравнению с Солнцем массой, приходится… 98 процентов момента количества движения всей системы. Как могло случиться, что наше светило передало почти все количество движения дочерним сгусткам вещества?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
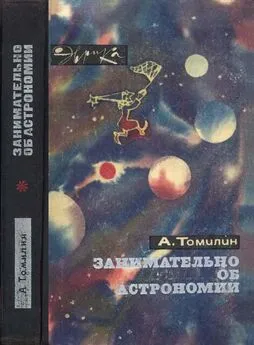

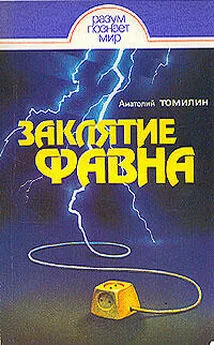
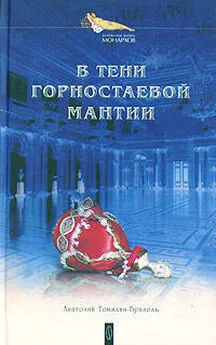
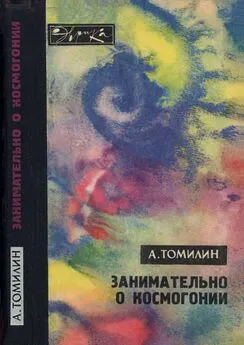
![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/408049/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970.webp)