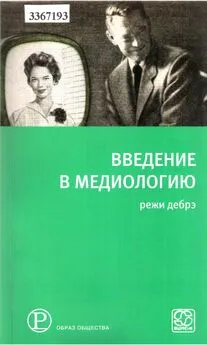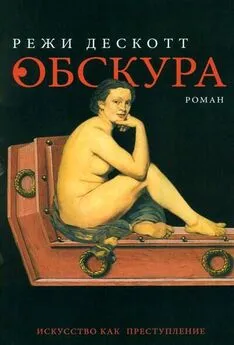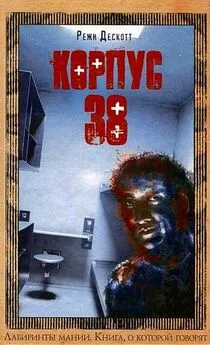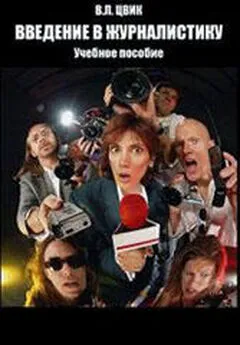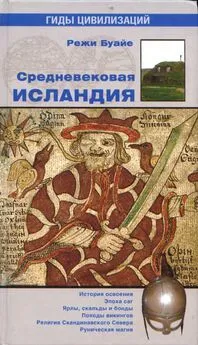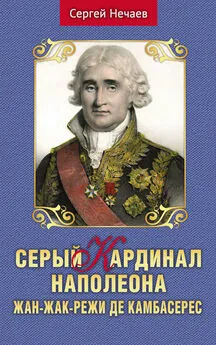Режи Дебре - Введение в медиологию
- Название:Введение в медиологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Праксис
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-901574-76-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Режи Дебре - Введение в медиологию краткое содержание
Целью медиологии не является передача каких бы то ни было сообщений. Она довольствуется изучением процессов, с помощью которых сообщение посылается, циркулирует и «находит адресата». Она не способствует распространению никакой веры. Она стремится лишь помочь понять, как и посредством каких организационных принципов мы веруем. Это не доктрина, соотносимая с каким бы то ни было фундаментом. Она ограничивается задаванием вопросов об условиях взлета доктрин (религиозных, политических или моральных) и о причинах возникновения ученого авторитета.
Эта площадка для критики, само собой разумеется, представляет собой полную противоположность «большому повествованию» тех, кто убаюкивал нас грезами о лучшей жизни.
Медиология не несет ни благой вести, ни освобождения, ни исцеления. Она не обещает ни малейшего избытка власти, престижа или счастья. Не обещает и возвышения в обществе.
В противоположность большинству «научных идеологий», сформировавших школы и авторитет с начала Промышленной революции, медиология не может считаться ни авторитетом, ни панацеей. И если медиология может - то тут, то там - осуществить более точную наводку на пока еще расплывчатые зоны социальной жизни, то она все-таки достаточно осведомлена о становлении идей, и поэтому, с одной стороны, не подвергает сомнению действенность научной критики, а с другой, не воображает, что выигрыш, полученный в сфере познания, может возыметь спонтанный освободительный эффект в отношении нашего коллективного бреда.
Введение в медиологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем имеется немало типов и уровней научности, и можно счесть эпатажем утверждение, согласно коему «существует лишь один тип наук, и это науки естественные» (М. Петито). Если под «наукой» в сильном смысле слова мы понимаем дедуктивную номологическую теорию, устанавливающую законы, из которых мы можем выводить последствия, то само собой разумеется, медиология в эту сторону даже не смотрит. Самое большее — она может смотреть в сторону интерпретативных конструкций , не пророческих и не научных, правдоподобных, но неразрешимых; эти конструкции стремятся по возможности строго систематизировать пока еще беспорядочное множество эмпирически констатируемых фактов и процессов эволюции. Здесь предлагается всего лишь новый раскрой давно известного, а именно — невиданный тип (рассмотренный как тип) описания явлений , пока слитно описывавшихся туманным термином «культура ». Это упорядочивание непривычно, но позволяет осуществить свежий взгляд, из-за простого факта установления связей там, где их не видели.
Именно объем немыслимого, кроющегося под феноменами передачи, равно как и состояние сиротства и остракизма, в котором эти явления находятся, побуждает нас выдвинуть их на первый план. Речь идет не о том, чтобы кичиться внешними приметами научности (к чему, как правило, присоединяется «методологический» канон и статистический остов), «выделяя» то тривиальное или недостойное в наших мелких делишках, что заботит философа, стремящегося не ронять достоинство. Один современный социолог (Пьер Бурдье), сталкиваясь с модными неологизмами, обвиняет за чрезмерное распространение суффикса «-логия» «усилия философов, направленные на заимствование методов научности и видимости научного у социальных наук, без отказа от привилегированного статуса философов» [292] Pierre Bourdieu, Réponses , Éd. du Seuil, 1992, p. 131.
. Не веря ни в такую научность (по крайней мере, для самого себя), ни в подобные привилегии, медиолог скромно смотрит в сторону «гуманитарных наук», благодаря которым он добывает свой хлеб и которые обеспечивают ему скорее удовольствия от познания, нежели проекты исцеления. Непрерывно контролируя собственные умозаключения и умеряя свои выводы, медиолог охотно записал бы себя в потомки представителей «свободных искусств», как приложения к «моральным и политическим наукам» [293] Pierre Lévy, «La place de la médiologie dans le trivium», in Cahiers de médiologie , no. 6, 1998, p. 43.
(множественное число от «вежливости» и « благоразумия » ). Эта сыновняя позиция по соседству со «словесностью» обычно умеряет наследственные недуги академической жизни, коими являются война и жаргон.
Война между клерками, или полемика личностей... Как общее правило: чем туманнее дисциплина, тем более авторитарны ее представители. Так называемое «нежесткое» высказывание компенсирует собственную неразрешимость жесткостью самого характера высказывания. Кто уступает science appeal [294] Внешней привлекательности науки ( англ .). — Прим. пер.
на университетских территориях расплывчатого, тот больше, нежели простой любитель, склонен облекать личную инвективу в «научный» вердикт, выставляя противника кретином. Или же использовать в собственных целях положение, чин или клиентуру. «Социальные науки, феодальные науки...» (Даниэль Бунью). После того как, воздав должное системной традиции, мы рассмотрим взаимодействие между великими синоптическими таблицами, исследование наше найдет лишь выгоду в малых, умопостигаемых, локализованных, сборно-разборных и переносных конструкциях с несколькими входами. Не переходя на личности в дебатах, не водружая вымпел на захваченные земли, и — что важнее — не анафематствуя соседей тоном энциклики.
А как же жаргон? В науке в собственном смысле слова, той, что имеет строгую специализацию, передача происходит по направлению к упрощению, а научное преподавание облегчает и уменьшает доказательный аппарат (или протокол экспериментов). В некоторых гуманитарных паранауках — благодаря чему они сближаются с вестью религий (библейская экзегеза лишь затуманивает священный текст) — имеется склонность к усложнению, а поздние вульгаризаторы охотно трансформируются в затемнителей. Схоластика менее понятна, чем Аристотель, Альтюссер — чем Маркс, а Лакан — чем Фрейд (и так далее, потому что томисты менее прозрачны, чем Doctor angelicus [295] Ангельский доктор ( лат .) . Прозвище Фомы Аквинского. — Прим. пер.
, альтюссерианцы — чем Альтюссер, лаканианцы — чем Лакан и т. д.). Можно утверждать, что из сложного видимого ученый делает простое невидимое. С докторами часто случается, что из довольно читабельного простого они делают довольно нечитабельное сложное. Вероятно, и здесь мы хотим, чтобы формальная усложненность заменяла спорный, авантюрный и иногда грубый характер отправной точки. Честное удовольствие состоит в том, чтобы внести собственный вклад в коллективную задачу, вывести из сферы неописуемого определенные области опыта, которые длительное время считались второстепенными (экономика), постыдными (сексуальность) или тривиальными (техника). Этим не следует злоупотреблять — из-за опасности заново впасть в логомахию (тогда большее прояснение оборачивается большим обскурантизмом).
Техника против этнологии: опасная зона
Этнология — наука о разнообразии обществ; а технология — наука о единообразии оборудования. Медиология, располагаясь между ними, ставит проблему совместимости этнологии и технологии (точка пересечения как проблема). Она задает вопрос, как на планете сингулярность культур, которые нигде не бывают одинаковыми, может сосуществовать с равнением сетей — повсюду одних и тех же — друг на друга. Как же территориальная субъективность взаимодействует с научно-технической стандартизацией?
Перетасовка [remaniement] материалов при сохранении [remanence] идентичностей: такого парадоксального сплава не было в программе сциентизма былых времен. Сочетание первой и второго, вероятно, привело к великому сюрпризу XX в., составив наиболее неожиданный вклад этого столетия в познание человека. Последствия культурного де- и реструктурирования технических инноваций, техническая обусловленность изменений в культуре: возьмем ли мы его в одном или в другом направлении ( top down или bottom up ), медиологическое межевание перекраивает наличный порядок (с одной стороны, техническую рационализацию, с другой — культурные исключения) в нескольких точках. Мы имеем дело с политически чувствительной материей. Говорят о «шоках цивилизации» во множественном числе. Но шок (более или менее жестокий) ощущается, прежде всего, внутри всякой цивилизации. Если тектоника слоев образует метафору, то продолжающиеся технологические потрясения вызывают непрерывное трение между (постоянно меняющейся) корой нашего оборудования и глубинным подземельем памяти, которое обладает слабой эластичностью, но подвержено мощным сжатиям. Именно вдоль этих двух линий, на стыке приключений техники и традиционного уклада сети связей и системы соучастия, оборудования и принадлежностей, гораздо больше на Юге, чем на Севере, мы наблюдаем несогласованный с ментальностью сдвиг темпоральности. Отсюда вереницы потрясений, дестабилизирующих государства и население, от Тегерана до Алжира, от Китая до Балкан. Медиолог работает там, где это трудно, как во внешнем, так и во внутреннем измерении. Ведь подобно группам, индивиды (и не только пожилые люди) все чаще испытывают беспокойство, дезориентацию в своих привычках и достоверностях из-за потрясения целых поколений предметов и познаний. Знания-как-поток (или ноу-хау) вытесняют знания-как-склад (или мудрость); молодежь знает об этом больше, чем старшее поколение; все большее количество невежд на земном шаре должно учиться у все меньшего количества экспертов все большему количеству вещей... Для этого «недовольства культурой», для этого квазидемографического дисбаланса передачи намеченный здесь подход может снискать несколько орудий анализа и предусмотрительности. Правда, при условии, что палеонтолог при столкновении с эволюцией скелета человека, или же технолог при столкновении с эволюцией определенной линии инструментов будет различать между феноменами тенденции (предвидимыми, обобщенными, обладающими продолжительными ритмами) и точечными фактами (непредвиденными и конкретными, сверхдетерминированными тысячью причинно-следственных цепей). Всегда важно сопоставлять наиболее разочаровывающую актуальность с большой длительностью. Смена масштаба позволяет увидеть в наших мнимых «перебоях» эффект уже известных регуляций, действующих с самого начала «филогенеза» (история биологического вида). Отсюда интерес к тому, чтобы отступить от «последнего крика моды». Например, «виртуальная реальность», взятая из информатики, станет понятнее благодаря освещению длительным процессом виртуализации (или «дереализации») чувственного мира, процессом, начавшимся вместе с первыми графическими символизациями настенной живописи [296] Pierre Lévy, Qu'est-ce que le virtuel?, Paris, Éd. La Découverte, 1994.
.
Интервал:
Закладка: