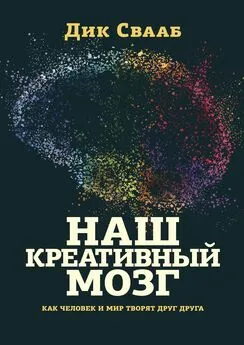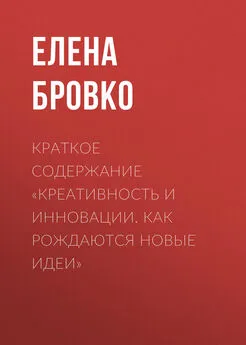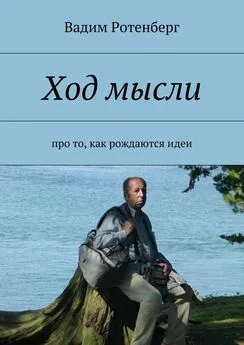Элхонон Голдберг - Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир
- Название:Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-105057-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Элхонон Голдберг - Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир краткое содержание
Какова природа творчества? Какая работа разума скрывается за его мистикой? Каковы эволюционные корни креативности? В книге нейробиолога и нейропсихолога Элхонона Голдберга эти и другие вопросы рассматриваются как с научной, так с исторической и культурологической точек зрения, превращаясь в масштабное и увлекательное исследование. Опираясь на результаты последних открытий и исследований мозга, а также на собственные идеи и гипотезы, Голдберг приходит к оригинальному, убедительному и даже провокационному пониманию природы творчества и креативности. Читатель совершит удивительное путешествие сквозь эпохи и страны: от античности до далекого будущего, от Западной Европы до Юго-Восточной Азии. Автор делает смелые прогнозы о перспективных направлениях творчества и инноваций, объясняя их биологические и культурные истоки, рассказывает о том, как они сформируют общество будущего и изменят способы развития человеческого мозга.
Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Долгосрочная память вступает в игру не только при использовании оперативной памяти в реальной жизни, но также и в некоторых экспериментах по изучению ее у человека. Возьмем, например, задачу «n-шагов назад» ( англ . N-back task. – Прим. перев .). Впервые предложенная Вэйном Кирчнером более столетия назад, эта задача переживает второе рождение в качестве «рабочей лошадки» в исследованиях оперативной памяти (рис. 4.4) 28.

Рис. 4.4. Задача непрерывного выполнения.Является ли изображение в окне тем же самым или отличным от того, которое наблюдалось n шагов назад?
Идея, на которой основана задача непрерывного выполнения, проста и элегантна. Представьте себе конвейер с различными предметами, который движется за стеной, отделяющей его от наблюдателя. В стене есть окно, поэтому в каждый момент времени наблюдатель видит только один предмет. Наблюдателя просят сообщать, является ли появившийся в окне предмет тем же самым или отличным от предмета, который наблюдался один шаг назад (N = 1), два шага назад (N = 2), три шага назад (N = 3) и так далее. Задание требует от наблюдателя постоянного обновления информации о том, какие предметы должны сравниваться, а не просто пассивно удерживать определенную информацию в памяти. Если предметы представляют собой бессмысленные загогулины, которые наблюдатель ранее никогда не видел, то этот эксперимент будет похож на исследования «оперативной памяти» у животных, где оперативная память запускается недавним сенсорным входным сигналом. Но если предметы представляют собой буквы, или слова, или изображения обычных предметов, то в процесс вовлекается содержимое долгосрочной памяти.
И даже необязательно быть человеком, чтобы ваше поведение направлялось содержимым долгосрочной памяти, а не полученным недавно сенсорным входным сигналом. Хотя способность моих собак к формированию «воспоминаний о будущем» кажется в лучшем случае ограниченной, их способность использовать долгосрочное хранилище более очевидна. Это интересное отличие, вероятнее всего связанное со степенью участия лобных долей в этих процессах. У моего бульмастифа Брита был плохой аппетит, он подолгу игнорировал миску с едой, которую я ставил в «его» углу нашей квартиры. До тех пор, пока он не замечал, что я взял в руки поводок. Брит понимал, что мы собираемся на улицу и он будет разлучен со своим имуществом. В этот самый момент он стремглав бежал в «свой» угол из другого конца квартиры, заглатывал еду, выпивал всю воду и только потом подходил ко мне и ждал, когда я пристегну поводок. Как я уже говорил ранее, прошло несколько лет, прежде чем развился предсказательный аспект его поведения, и Брит начал проявлять такое поведение только в конце жизни (он умер в 12 лет, и мне до сих пор его очень не хватает). Но был и другой компонент его поведения – долгосрочная память. Вероятнее всего, Брит вел себя так потому, что помнил о расположении мисок с водой и едой, которое не менялось на протяжении многих лет и хранилось в его долгосрочной памяти, а не потому, что я положил еду в миску и он об этом только что узнал. Он иногда даже не видел, что в миске появилась еда. (Если только Брит, будучи собакой, не руководствовался обонянием, сообщавшим ему о расположении еды при помощи сенсорного входного сигнала в реальном времени.) Мой новый английский мастиф Брутус демонстрирует еще более недвусмысленное поведение. Когда я привез Брутуса домой из «собачьей гостиницы», где он пережидал мое двухнедельное отсутствие, пес немедленно побежал в тот угол квартиры, где обычно помещались его миски с водой и едой, хотя в этом углу ничего не было – место было убрано, и тщательно вымыто, и даже обрызгано освежителем воздуха, перед тем как я уехал из дома. Поведение Брутуса говорит о хорошей «оперативной памяти», но оно направляется содержимым долгосрочной памяти, а не недавним или сиюминутным сенсорным входным сигналом. В возрасте 11 месяцев Брутус демонстрирует поведение, которое говорит о бросающемся в глаза несоответствии: практически полном отсутствии предсказательного, ориентированного на будущее поведения, и в то же самое время у него в определенной степени развитая способность использовать в своих действиях долгосрочную память, представляющую прошлое. Это, вероятно, является отражением развития лобных долей у семейства собачьих – умеренное, но существенное, почти сравнимое с развитием этих частей мозга у макак-резусов, в плане их величины относительно общего объема коры 29.
Долгосрочные знания и лобные доли
Таким образом, природа взаимодействия префронтальной коры и долгосрочного хранилища знаний, которые, предположительно, распределены в неокортексе, имеет фундаментальное значение. Без этого такие распространенные выражения, как «извлечение информации онлайн» и «мысленный блокнот», остаются всего лишь эвристическими метафорами, полезными и пробуждающими воспоминания, но лишенными точного значения или механистической четкости.
Очевидно, что мозг обычного человеческого существа, не говоря уже об интеллектуалах и честолюбцах, озабочен намного более сложными делами, чем простая информация о простых предметах и их расположении в пространстве, вроде размещения в квартире мисок моих Брита и Брутуса. Предполагается, что почти все наши общие знания хранятся в этих, сильно развитых, областях коры головного мозга – префронтальной коре и задней гетеромодальной ассоциативной коре. Эти же области коры являются главными компонентами «положительно направленной на задание» центральной исполнительной сети и «направленной на внутреннее задание» сети пассивного режима. Если психические механизмы современного мыслителя выковывают идеи, пока он «стоит на плечах гигантов» и если они зависят от взаимодействия этих областей, то какого рода информацией они обмениваются и каким образом? При условии, что имеет место некоторое сокращение информации, какова его природа и в чем оно выражается? Несмотря на то что такая информация постоянно «копируется» из задней коры, где она изначально хранится, в префронтальную кору, без некоего рода уплотнения это было бы просто эволюционным расточительством, поглощающим ресурсы дублированием, разумеется не способствующим адаптации. Более того, это было бы просто моделируемым оксюмороном, поскольку постоянная точная копия могла бы потребовать такой информационный объем источника (огромные области задней коры), превышающий информационные емкости реципиента (латеральной префронтальной коры). Такая структура вступала бы в противоречие с теоремой Гёделя о неполноте и с теоремой Тарского о невыразимости, с двумя самыми важными математическими формулами двадцатого столетия. Обе теоремы говорят о том, что система не может полностью представлять себя или другую систему, равной или большей сложности 30.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
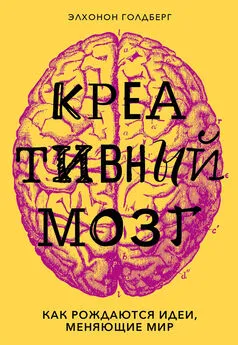
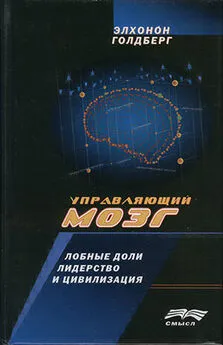
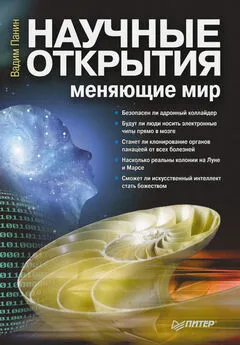
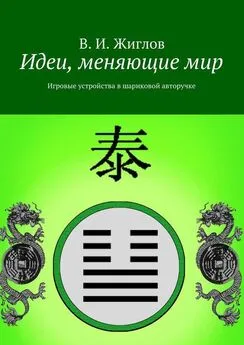
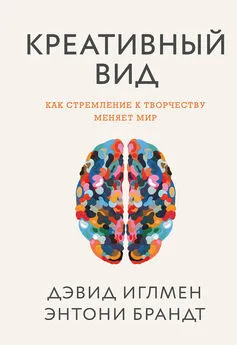
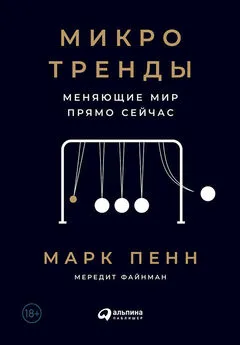
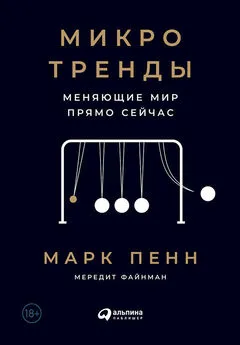
![Элхонон Голдберг - Креативный мозг [Как рождаются идеи, меняющие мир] [litres]](/books/1065923/elhonon-goldberg-kreativnyj-mozg-kak-rozhdayutsya-id.webp)