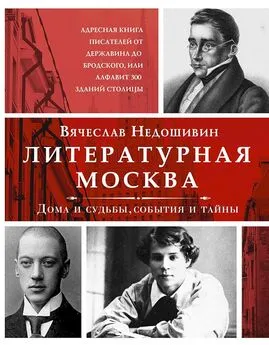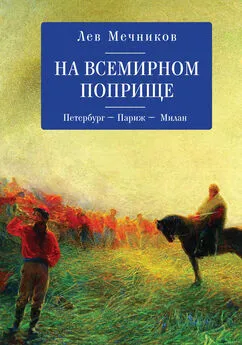Вячеслав Недошивин - Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы
- Название:Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-084306-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы краткое содержание
«Здесь всё выстроено на документальной точности. Кто где жил, бывал, с кем спорил в знаменитых салонах, в кого влюблялся в поэтических кабачках – обо всем этом узнаешь, погружаясь в рассказы, объединившие историю, литературу, биографические загадки и – Географию Великой Поэзии…»
Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, в их с Миррой романе – всё туман. Ни где познакомились, ни как – ничего не известно. Известно, что встретились до женитьбы Бальмонта на Кате и – после замужества Мирры. Нынешний биограф Лохвицкой, Татьяна Александрова, писавшая свою книгу до выхода в свет мемуаров Фидлера, вообще считает, что никакой «постели» между ними не было – был роман в стихах, встречи (чаще на людях) и… поэтическая ревность. Хотя и отмечает странные «пересечения» их то в Крыму, то в Петербурге, куда Лохвицкая, уже мать троих детей, вдруг необъяснимо срывалась. Кстати, гадая, кто познакомил Бальмонта и Мирру, Александрова называет Бунина, который нежно относился к Лохвицкой, но – упускает из виду, например, Татьяну Щепкину-Куперник. Помните, она была на вечере у князя Урусова, где вместе с Бальмонтом сидела за одним столом? Тогда, в 1893-м, Тане Куперник было девятнадцать. А уже в следующем году, в 1894-м, она, откликаясь на стихи Лохвицкой, послала ей восторженное письмо, и с того дня началась их и близкая, и тесная дружба. Уж не она ли и познакомила, свела двух поэтов? Моя версия.
Одно не оставляет сомнений: и в Москве, и в Петербурге женатый Бальмонт не раз навещал замужнюю Лохвицкую. В Москве в ее квартире в Спасском ( Москва, Большой Каретный пер., 1) он даже появился однажды с Брюсовым, другом, которому Лохвицкая не понравилась ни как поэт, ни как женщина: «Зачем у нее такой большой рот?..» А в Северной столице, куда Мирра перебралась уже навсегда в 1898-м, Бальмонт бывал у нее на Стремянной, тоже в сохранившемся доме ( С.-Петербург, ул. Стремянная, 4). Не исключаю, впрочем, что и Мирра была у него ( С.– Петербург, ул. Жуковского, 41), а уж в 1901-м, когда Бальмонты поселились прямо в соседнем с Миррой переулке ( С.-Петербург, Дмитровский пер., 11), бывала наверняка. В Москве могли встречаться на «шмаровинских средах», у известного коллекционера живописи, а вообще-то бухгалтера В.Е.Шмаровина ( Москва, ул. Большая Молчановка, 25). А в Питере – это подтверждено свидетелями – на «пятницах» у того же Случевского, но теперь уже на Фонтанке, куда сходился весь поэтический мир ( С.-Петербург, наб. Фонтанки, 127). Но главное, не оставляет сомнения «главный» факт: в «тихом омуте» души Лохвицкой водились, водились сердечные «черти». Ведь бурю ревности вызвала в ней женитьба Бальмонта на Кате. А когда Аполлон Коринфский, поэт, который тоже был влюблен в Мирру и у кого она тоже, кажется, бывала ( С.– Петербург, ул. Гончарная, 24), намекнул ей, что она, пусть и в одном стихотворении, но – подражает Бальмонту, Мирра в бешеном письме ему четыре раза написала слово «стыдно», дважды, что «страшно оскорблена», и один раз: «И кому же!..» Наконец, известно, что в стихотворной «перестрелке», которую и Бальмонт, и она вели всю жизнь, последнее слово осталось все-таки за ней. «Ты будешь женщин обнимать, – предсказала ему, – И проклянешь их без изъятья. // Есть на тебе моя печать, // Есть на тебе мое заклятье. // И в царстве мрака и огня // Ты вспомнишь всех, но скажешь: “Мимо!” // И призовешь одну меня, // Затем, что я непобедима…»
Непобедима – такой она и уйдет в могилу. Потому непобедима, что через два года после смерти (а она умрет в тридцать шесть лет) Бальмонт назовет свою родившуюся дочь – Миррой. Дочь, кстати, будет писать потом, по словам отца, просто «гениальные стихи». Непобедима потому еще, что «заклятье» Лохвицкой и впрямь осуществится. Невероятно, но через восемнадцать лет после смерти Лохвицкой ее последний, четвертый сын, Измаил не на шутку влюбится как раз в Мирру. Эстафета любви. Явной любви против неявной – родительской. Оба, как родители их, писали стихи. И оба закончат свои дни, как и родители: Мирра, хоть и бросит писать стихи, проживет, как отец, долго, до 1970 года, а сын Лохвицкой, как и мать, уйдет из жизни рано – застрелится в 1924-м. В предсмертном письме, которое пошлет в Париже, представьте, Куприну, попросит передать Мирре свои стихи и… портрет своей матери. Так в доме Бальмонтов, уже в эмиграции, его давняя «любовь-страсть» невольно напомнит о себе. И впрямь – непобедима…
Впрочем, у Бальмонта – всё было необычным. Поэт дня и ночи, души и тела, любви-нежности, когда боялся дотронуться до женщины, и любви-страсти, когда однажды ножом разом вспорол на возлюбленной платье, чтобы вмиг увидеть ее обнаженной, – вот каким был он. Но Катя, с которой всё было схоже у него (оба любили «Фауста» Гёте и «Манфреда» Байрона), Катя, мне думается, полюбила его за детскость, за непосредственность, за – доверчивость просто младенческую.
Я вот недавно прочел, например, что Сталин, найдя муравейник в лесу («человейник», по выражению покойного философа А.Зиновьева), обожал поджигать его с нескольких сторон и смотреть, как гибнет этот неведомый мир. Нравилось ему это. Так вот Бальмонт, напротив, часами мог сидеть над муравьиной кучей и следить за крошечной жизнью. Реальный факт! Любил ботанические и зоологические сады. В столицах мира, а он объехал чуть ли не все, первым делом искал именно их, потом базар, цирк, ярмарку, где обходил все аттракционы. Стрелял в чучел, гадал «у попугаев», играл «в лошадки» – нечто вроде рулетки – и, как правило, проигрывался в дым. А когда однажды во Франции поставил большие деньги в настоящую рулетку, то в зале вдруг потемнело. Забегали служители, спешно закрывались окна, обслуга замахала салфетками, а лампы над игральным столом, как пишет Катя, «облепило что-то черное». Первым пришел в себя как раз поэт; сообразил: в зал влетела туча бабочек – и, бросив игру, кинулся ловить их вечной шляпой своей. Метался по залу, как тот шарик на рулетке, а настоящий шарик, напротив, замер, и крупье, уже надрываясь, кричал: «Игра окончена, красный выигрывает!..» Оказывается, на всех ставках выиграл Бальмонт. Катя еле дотащила его до стола, но он лишь сгреб деньги, сунул их ей, а сам, копаясь в своей дурацкой шляпе, очумело повторял: «Это, наверное, африканские бабочки, их занесло сюда бурей, пойдем домой, их надо рассмотреть, они, может быть, редкие…» Французы, заканчивает Катя, глядели ему вслед с сожалением…
Дитя, конечно! Ведь Катя и после смерти его не без улыбки вспоминала, что, когда толкала его ногой под столом, напоминая, о чем не надо говорить, он приподнимал скатерть и недовольно заглядывал вниз: «Это ты меня толкаешь?..» А затем, догадавшись, таращился при всех: «А что я такого сказал?..» Ну как было не любить такого? Он ведь и в стихах, и задолго до Маяковского, который, думаю, и взял этот образ, назвал себя облаком: «Я ведь только облачко. // Видите: плыву. // И зову мечтателей. // Вас я не зову!..»
Был облачком, но бывал и темной тучей. Был ведь не один – два Бальмонта. «Один, – напишет Катя, – настоящий, благородный, с детской и нежной душой, а другой, когда выпьет вина, полная его противоположность: грубый, способный на всё самое безобразное». «Два духа, две личности – поэт с улыбкой и душой ребенка и рычащее безобразное чудовище», – заметит о нем и Нина Петровская, писательница, сама не избежавшая его чар. А ведь можно и проще сказать: он был утренний и ночной, трезвый и пьяный, кроткий и рьяный. Рифма, однако! Но у меня это случайно – excuse me …
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)