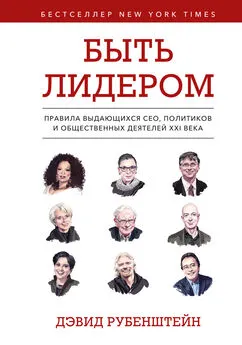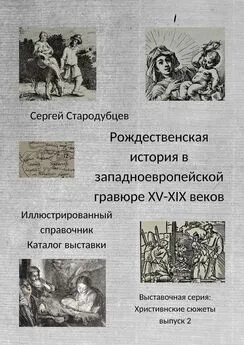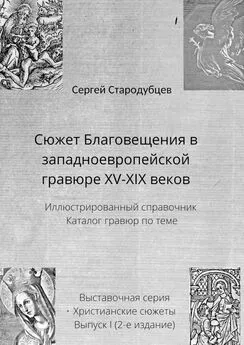Кирилл Кобрин - Modernite в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX–XX веков
- Название:Modernite в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX–XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2015
- Город:Vital
- ISBN:978-5-7598-1250-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Кобрин - Modernite в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX–XX веков краткое содержание
Автора книги интересует, как было устроено сознание некоторых людей, создавших эту эпоху и участвовавших в ее развитии – или противостоявших ей.
Книга адресована широкому кругу читателей, имеющих вкус к исторической рефлексии.
Modernite в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX–XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
…его [16] Луи Бонапарта.
всюду сопровождали члены Общества 10 декабря. Это общество возникло в 1849 году. Под видом создания благотворительного общества парижский люмпен-пролетариат был организован в тайные секции, каждой из которых руководили агенты Бонапарта, а во главе всего в целом стоял бонапартистский генерал. Рядом с промотавшимися кутилами сомнительного происхождения и с подозрительными средствами существования, рядом с авантюристами из развращенных подонков буржуазии в этом обществе встречались бродяги, отставные солдаты, выпущенные на свободу уголовные преступники, беглые каторжники, мошенники, фигляры, лаццарони, карманные воры, фокусники, игроки, сводники, содержатели публичных домов, носильщики, писаки, шарманщики, тряпичники, точильщики, лудильщики, нищие – словом, вся неопределенная, разношерстная масса, которую обстоятельства бросают из стороны в сторону и которую французы называют la boheme (с. 167).
Такое вот странное описание богемы – и не менее странное выставление ее в качестве чуть ли не главной силы, поддержавшей Луи-Наполеона. Что это значит?
На первый взгляд очевидно: марксова теория классовой борьбы оперировала большими социальными понятиями. Все не попадающее под главное определение, исходящее из недвусмысленного отношения к средствам производства, оказывалось под сомнением и раздражало. Дело даже не в том, что подозрительные субъекты «выбивались из схемы», все гораздо серьезнее: они ускользали от марксистской телеологической идентификации. То есть Маркса интересует ответ не на вопрос «кто они?», а «для чего они?». И тут начинается самое интересное. Для Маркса с его идеей (мелко-)буржуазного сознания, претендующего на универсальность и всеобщность, такой вопрос стоять не должен. Богема есть необходимый элемент современного общества, довольно важный – так как именно здесь, за пределами жесткой классовой схемы, неприкрыто, безо всякого стыда реализуются интенции современности. Богема как бы не принадлежит никому, она состоит, по марксову же определению, из «подонков»; именно поэтому она является идеальным авангардом будущего бонапартистского режима, который покоится на комбинации интересов различных классов. Луи-Наполеон разом и революционен, и реакционен; он народен и автократичен; он подозрителен к органам представительной демократии (последовательно их ослабляя и уничтожая); он предпочитает апеллировать прямо к «народу» – либо не спрашивать разрешения на свои действия вообще. Он сам «подонок», он сам «богема». Получается, что в определенные моменты политической истории именно такого рода люди способны создать балансирующую между разными группами населения систему власти.
Но если переключиться из чисто социально-политического контекста современности в культурный, мы увидим, что здесь богема выполняет ту же самую функцию. Она презирает устоявшиеся культурные иерархии и предлагает прямое высказывание поверх (или вбок от) социокультурного заказа, опосредованного этими иерархиями и соответствующими институциями. Она рабски зависит от имущих классов (за счет подачек которых и существует), но все время нападает на них и даже постоянно оскорбляет их. Она презирает низшие классы и низовую «обывательскую» культуру – и в то же время в своем бунте против истеблишмента делает вид, что солидаризируется с «простыми людьми», особенно с самыми социальными низами. Наконец, богема принципиально современна (более того, претендует на то, чтобы диктовать культурную моду) и даже революционна, но вместе с тем она же часто щеголяет своей старомодностью, отрицает буржуазный прогресс, тяготеет к архаике и т. д. В этом смысле очень важно, что именно Вторая Империя породила богему в ее классическом – и существующем до сих пор! – виде. Если нужны какие-то еще доказательства, что мы по-прежнему живем в XIX веке, в современности, в эпоху господства буржуазного сознания, то это обстоятельство есть одно из главных.
Маркс в «Восемнадцатом брюмера» крайне злобно настроен в отношении тех, кого он называет богемой; любопытно также, что его критика носит почти исключительно моральный характер. Кажется, перед нами не идеолог пролетарской революции и пророк грядущего конца старого мира и триумфа коммунизма, а обыватель и ханжа (и это при том, что ханжой Маркс не был ни в коем случае [17] «Маркса приводили в бешенство все рассуждения об универсальной морали и общечеловеческих принципах», – пишет Берлин (Берлин И. Указ. соч. С. 396).
). В чем же дело? Маркса раздражает не только то, что «подонки», «люмпены» есть исключение из установленных им же правил; его бесит легкость, с которой этот «сброд» решает политические задачи (а в то же самое время и культурные, о чем Маркс не знал), оказавшиеся не по зубам пролетариату (и другим «нормальным» классам). «Богема» при таком раскладе вовсе не символ грядущего скорого разложения старого порядка, а совершенно необходимый – и успешно действующий, несмотря на всю внешнюю свою расхлябанность, – элемент структуры современного мира. Маркс достаточно проницателен, чтобы понимать это. Отсюда злость и странные всплески обывательского морализма. Через 12 лет после написания «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», создавая Первый Интернационал, Маркс столкнется с тем, что богема оказалась не только действеннее пролетариата и его идеологов, она подвижнее, гибче и в каком-то смысле действительно эффективнее. Глядя из начала XXI века, наблюдая символы, знаки и слова окружающего нас мира, которые придумали дадаисты, Энди Уорхол, Ги Дебор, контркультура шестидесятых-семидесятых и прочие агенты хаоса и анархии, мы должны признать, что богема победила. А пролетариат, спросите вы? Он просто исчез.
Казус Кафки
(Поиск национальной идентичности в Центральной Европе)
Франц Кафка похоронен на Новом еврейском кладбище в Праге. Макс Брод утверждает, что обнаружил в архиве своего покойного друга не меньше страниц с упражнениями в древнееврейском языке, нежели литературных сочинений, дневников и писем на немецком. В Великобритании и США Кафку часто называют «чешским» писателем, да и нынешние власти Чехии не прочь украсить портретом Кафки местный культурно-исторический иконостас. Подход – типично «территориальный»: писатель жил на территории нынешней Чехии, потому он чешский. Такой подход выгоден и для ретроспективного формирования «чешской (прежде всего, «пражской») культурной традиции», и в более приземленных интересах развития туристической индустрии в Праге [18] Ярчайший пример – «музей Франца Кафки» на Малой Стране, в туристическом средневековом пражском районе, который почти никак не связан с жизнью писателя. Музей этот – наряду с пражским же музеем Альфонса Мухи или венской квартирой-музеем Фрейда – представляет собой совершенно новую, «коммерческую» разновидность персональных музеев; обычно они создаются частными лицами для получения прибыли. Билеты в такие музеи стоят дорого, экспозиция состоит в основном из «вещей той эпохи», которые могли бы окружать «писателя К.», «художника М.», «психоаналитика Ф.». В эпоху создания национальных государств музеи создавались как памятники формирования наций и национальных культур; сама структура этих музеев предполагала, что выставленные вещи уже логикой своего размещения в музейных залах должны вести зрителя к осознанию важности и уникальности исторического пути того или иного народа (или того или иного писателя, художника, ученого). Идея нации и национальной культуры возникала из сочетания предметов, специальным образом размещенных в залах. Количество исторических вещей переходило в качество национальной идеи. В случае же «новых музеев» не идея, например, «великого писателя» эманировала из совокупности собранных в музее личных его вещей; наоборот, «идея великого писателя» придает «истинность» выставленным (довольно случайным) предметам. Идея «торжества истории» заменяется идеей «торжества контекста».
. В Советском Союзе в начале 60-х годов, когда Кафку начали переводить на русский, его называли «австрийским» писателем. Это подход уже не территориальный, а «паспортный»; идентичность становится продолжением подданства (или гражданства). Нередко можно встретить упоминание о «немецком писателе Франце Кафке» (здесь налицо «языковая прописка») и, конечно же, о «еврейском писателе Кафке» – в данном случае торжествует этнический подход. Даже в первом раунде обсуждения против каждого из этих подходов можно высказать серьезные возражения. Самый слабый из способов идентификации – территориальный. Часто писатель живет на некоей территории, но пишет на языке, здесь не распространенном, и принадлежит иной культурной традиции. Витольд Гомбрович долго жил в Аргентине, потом во Франции, однако он польский писатель. Пауль Целан – не французский поэт, Адам Мицкевич – не русский, Джеймс Джойс – не итальянский, не французский, не швейцарский прозаик. Можно, конечно, судить по месту рождения, но тогда Хулио Кортасар – бельгийский писатель и поэт. К тому же, территория, на которой жил Кафка, называлась сначала Богемией, потом Чехией; бо́льшую часть своей жизни он был подданным Австро-Венгерской империи, меньшую – гражданином Чехословакии. Значит ли это, что до 1918 года он был богемским писателем, а потом – чешским? Подобные претензии можно предъявить и тем, кто пытается установить идентичность Кафки «по паспорту». Иначе получается, что он – австро-венгерский писатель, ставший потом чехословацким. Конечно, можно было бы назвать Кафку немецким писателем – ведь он писал по-немецки и публиковался в немецких издательствах. Но если Роберта Музиля или Йозефа Рота называют австрийскими писателями, то в таком случае как мы можем назвать Кафку немецким? И наконец, о последнем варианте, исходящем из национальности Франца Кафки. Он был евреем, происходил из правоверной еврейской семьи, однако сам не был религиозным иуде ем, иврит учил, да не выучил, писал исключительно по-немецки. Если он – еврейский писатель, то Мандельштам уж точно – еврейский поэт.
Интервал:
Закладка:






![Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)