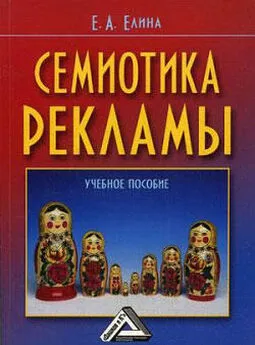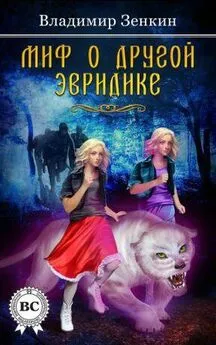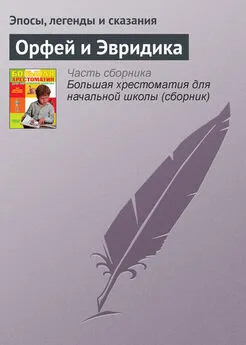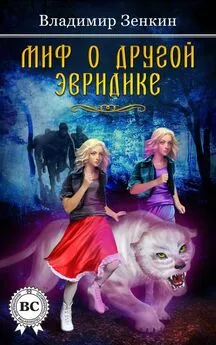Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике
- Название:Семиотика мифа об Орфее и Эвридике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905979-7-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике краткое содержание
Семиотика мифа об Орфее и Эвридике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Архаические представления о времени связаны в истории греческой культуры с именами Гомера и Гесиода. Существует легенда о поэтическом соперничестве великих аэдов. Знаменательно, что победу в этом состязании приписывают Гесиоду, хотя традиция полагает, что Гомеру нет равных. Причина симпатий к Гесиоду одна: по сравнению с Гомером, он оказался более чувствителен к идее времени [19] Гомер, по наблюдениям Х. Френкеля, автора монографии «Восприятие времени в древнегреческой литературе», не знал никакой точки времени, а всегда только длительность. У Гомера, считал он, еще «нет никакого интереса к хронологии, ни к относительной, ни к абсолютной». – Цит.: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 138.
. Гесиод первый из эллинов внес момент поступательности и стадиальности в представление о цикличности бытия. Более того, в «Теогонии» космогония выглядит как «прогрессирующий ряд периодических разрешений от бремени женщины-матери. Сначала это Гея-Земля, восходящая к древнейшему образу Великой Матери богов, олицетворяющему вегетативно-созидательную мощь природы, затем дублирующие и дочерние персонажи Геи: Ночь, Тефия, Метис, океанида Стикс и другие женские хтонические божества. Все они привлекаются для иллюстрации органического становления космоса» [20] Семушкин А. В. У истоков европейской рациональности. Начало древнегреческой философии. М., 1996. С. 104.
. «Теогония» Гесиода призвана выявить генезисно-динамический характер бытия.
В мире Гомера подобная динамика отсутствует. Здесь царит регулярный циклический ритм; в «Илиаде» он описывается стихами:
Сходны судьбой поколенья людей с поколеньями листьев:
Листья – одни по земле рассеиваются ветром, другие
Зеленью снова леса одевают с пришедшей весною.
В круговороте природы, в циклическом временном ритме, провоцирующем идею «вечного возвращения», прошедшее и будущее оказываются тождественны настоящему. Миф о «вечном возвращении», свойственный гомеровской картине мира, служит «инструментом уничтожения времени» [21] Леви-Стросс К. Сырое и вареное. – Семиотика и искусствометрия. М., 1988. С. 27.
. В результате мир Гомера изначально исключает хронологию, этот мир ПРЕБЫВАЕТ, а не СТАНОВИТСЯ. Для него актуальна не ХРОНОЛОГИЯ, а ТОПОЛОГИЯ. Здесь царит принципиально аисторическое бытие.
Но какое отношение это имеет к мифу об Орфее и Эвридике? Дело в том, что идея «вечного возвращения» влечет за собой представление о» золотом веке» как прерогативе минувшего; он всегда мыслится позади. Мифу о «вечном возвращении» противополагается идея линеарного развития, идея прогресса, при этом «золотой век» толкуется как атрибут будущего. Орфей – человек гомеровского мира, он – лирник, как Аполлон, и через него связан с небесной религией олимпийцев, которая впервые в своем целостном виде дана в «Илиаде» Гомера. Причина трагедии Орфея – поворот головы назад, а семиотически – в прошлое. Оборачивание – важный симптом. Ритуал оборотничества связан с тотемизмом, религией архаического коллектива. Вместе с тем, оборачивание – это еще и вспоминание о «золотом веке», который позади. Вот почему в «нетерпении сердца» Орфей оборачивается назад, но пожинает горе. Трагический исход предприятия Орфея, опять же семиотически, означает, что идея «вечного возвращения», а с ней и представление о «золотом веке» как прерогативе минувшего уже изжили себя. Иными словами, идея СТАНОВЛЕНИЯ всего сущего потеснила миф о «вечном возвращении». Гомеровскую картину мира сменила картина мира по Гесиоду, более молодая, а главное – иная.
Миф «вечного возвращения» не мыслит конечного момента бытия. В идеале он не знает смерти. Мир линеарного развития впервые осознает ее величие. Вот почему запрет оборачиваться исходит от Гадеса, бога мертвых. Для каждого Гадес, Аид – эмблема будущего; недаром его место на Олимпе, где ничего не становится, а только пребывает, оспаривается.
С идеей «вечного возвращения», которая в одном из орфических гимнов Кроносу выражена в словах «Ты все расточаешь дотла и вновь возвращаешь» [22] Античные гимны. М., 1988. С. 333. Миф о вечном возвращении породил представление о «Великих годах». К ним относился и «Великий год Орфея», насчитывавший 120000 лет. – Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. II. Рождение астрономии. М., 1991. С. 127.
, связана вера орфиков в метемпсихоз, в круговорот рождений. Пребывание в царстве Персефоны понималось ими как время очищения от грехов земной жизни; для большинства людей обитель Аида являлась своего рода Чистилищем. Тот же, кто провел земную жизнь, уважая волю богов и обычаи предков, тот и в царстве Персефоны обретает блаженство, «пока голос необходимости не призовет его обратно на землю для новых испытаний» [23] Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. Киев, 1993. С. 89.
. В этом плане в «Фиваиде» Стация есть интересный эпизод. Плутон, рассказывая об Орфее, спускающемся в Аид, замечает, что при звуках его лиры Парки ЗАНОВО начали плести нить жизни Эвридики в надежде на ее возвращение к солнцу:
… видел я сам сей позор, как под звуки чарующей песни
слезы текли Эвменид и Сестры урок повторили.
Так же и я… Но лучше блюсти закон беспощадный [24] Стаций. Фиваида. М., 1991. С. 130.
.
«Закон беспощадный» – не что иное, как необратимость смерти, и уже современник орфиков поэт Алкей не верил в метемпсихоз, вот почему полагал, что «Орфей насиловал судьбу», когда убеждал «людей, рожденных на свет, смерти бежать» [25] Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. Изд. подготовил А. В. Лебедев. М., 1989. С. 37.
. Ссылка Плутона на «закон» и неприятие Алкеем поступка Орфея приоткрывают еще одну завесу над семиотикой мифа: фиаско Орфея может рассматриваться как преодоление в этом мифе идеи метемпсихоза [26] «Если верить пифагорейцам, – писал перипатетик Евдем, – то я в будущем, поскольку все повторяется согласно Числу, опять буду рассказывать вам здесь сказки, держа эту тросточку в своей руке, в то время как вы будете сидеть передо мной, как сейчас сидите; и все остальное будет тем же самым». – Цит.: Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. II. Рождение астрономии. С. 127. Вместе с тем вера в метемпсихоз дожила до конца античности. – Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 1. М., 1992. С. 572. Об Орфее и Пифагоре см.: Kerenyi C. Pythagoras und Orpheus. – Aufsatze zur Geschichte der Antice und des Christentums: Essays. Berlin, 1937.
и родового сознания, ибо именно род не знает, по существу, смерти. Человек, чья судьба не отделена от родовой жизни, как бы еще не стал индивидуальностью и не обладает личностным самосознанием, а значит и не ведает о той роковой бездне, которая маячит на горизонте индивидуального существования, когда личность сама себе является единственной субстанцией. Соотнесенность неудачи Орфея с изживанием в греческой культуре родового менталитета подтверждается уже тем, что случай нарушения запрета фигурирует только в позднейших версиях мифа об Орфее и Эвридике [27] Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 82.
. Как крушение идеи «вечного возвращения» и насилие Орфея над судьбой миф об Эвридике и ее возлюбленном был воспринят Вал. Брюсовым. Его стихотворение «Орфей и Эвридика» (1904) написано в форме диалога, и уже в первой реплике героя звучит намек на мифологическую доктрину «вечного возврата»:
Интервал:
Закладка: