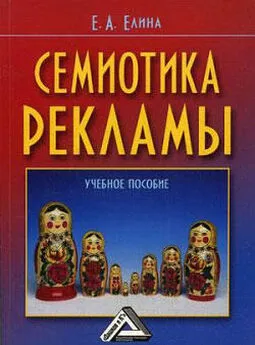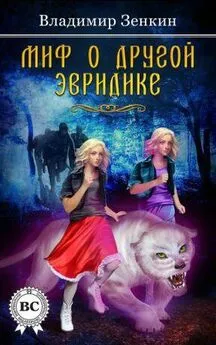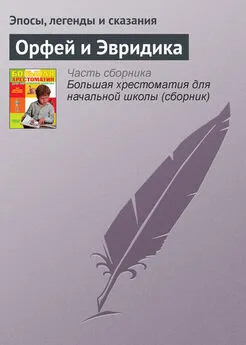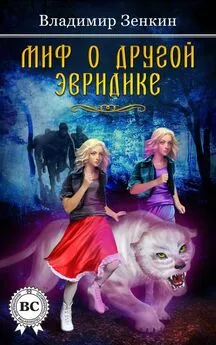Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике
- Название:Семиотика мифа об Орфее и Эвридике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905979-7-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике краткое содержание
Семиотика мифа об Орфее и Эвридике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
…И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие.
Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом.
И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи, —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.
И в плавный вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.
И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает – Орфей [51] Ходасевич Вл. Стихотворения. Л.: Искусство, 1989. С. 152–153. Об орфических мотивах у Ходасевича см.: Gobler Frank. Vladislav F. Chodasevic: Dualitch u. Distanz als Grundzuge seiner Lyric. München, 1988. P. 109–113.
.
Во втором черновике «Баллады», вызвавшей полемический отклик Г. Иванова – «И пора бы понять, что поэт не Орфей» [52] Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1994. С. 493.
, – предполагалось продолжение. В дополнительной строфе теургическое начало орфической музы, о котором во времена поздней античности писали как о способности Орфея «править грубой жизнью» [53] Палладий. Орфей. – Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 464.
, характеризовалось уже совершенно по-соловьевски:
Недвижному, косному миру
Проснуться настала пора.
С уснувшего, косного мира
Спади, роковая кора! [54] Ходасевич Вл. Указ. соч. С. 394.
В этой строфе зависимость Ходасевича от Вл. Соловьева совершенно очевидна; припомним, например, стихотворение «Три подвига», которое первоначально называлось «Орфей» и в котором Вл. Соловьев писал о трех подвигах: резца художника (Пигмалион), меча рыцаря (Персей или Геракл) и… подвиге креста, т. е. теурга. По Соловьеву, спасение Эвридики – подвиг именно креста, иными словами, священнодействия, определяемого философом как «реализация человеком божественного начала во всей эмпирической, природной действительности» [55] Соловьев Вл. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., С. 743.
. При этом Орфей мыслился прообразом Христа, а Эвридика – олицетворением «потенциально живой природы» [56] Ibid.
.
В результате миф об Орфее проецировался на мечту о Богочеловечестве. Открывшуюся в Христе «тайну Богочеловечества – личное соединение совершенного Божества с совершенным человечеством» Соловьев считал не только «величайшей богословской и философской истиной», но и узлом всемирной истории [57] Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1911–1914. Т. 4. С. 31.
. Духовное развитие человечества представлялось русскому мыслителю в виде постоянного, личного и нравственного взаимодействия человека с его живым Богом. По его глубокому убеждению, Христос явился миру как выражение или откровение внутренней сущности Царства Божия и «откроется оно в нас или нет, – говорил Соловьев, – в каждом случае зависит от нашей человеческой стороны, от того, как почва нашего сердца принимает семя Божьего слова» [58] Соловьев В. С. Царство Божие и Церковь в откровении Нового Завета // Православное обозрение, 1885. Т. 3. С. 23–49.
. Вяч. Иванов вслед Соловьеву, которого он считал не только певцом Софии, но и «образователем» религиозных стремлений Серебряного века, «Орфеем, несущим начало зиждительного строя» [59] Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 338.
, в статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» писал: «Орфей – движущее мир творческое Слово, и Бога-Слово знаменует он в христианской символике первых веков (…) Призвать имя Орфея – значит воззвать божественно-организующую силу Логоса во мраке последних глубин личности, не могущей осознать собственное бытие: fiat Lux» [60] Иванов Вяч. Орфей. – Труды и дни, 1912, № 1. С. 63.
.
Таким образом, спасение Эвридики толковалось как трансцендентный акт, а поражение Орфея рассматривалось как несостоявшийся брак Логоса и плененной Души Мира. Она, по словам Вяч. Иванова, страдает от «незавершенности освободительного подвига», о котором писал Вл. Соловьев, и требует от человека «других и больших усилий». Суть их, как полагал Иванов, заключается в преображении преемственными усилиями поколений «всей культуры – и с нею природы – в Церковь мистическую» [61] Иванов Вяч. Родное и вселенское. С. 280.
. Такая Церковь – вселенский анамнезис во Христе, который знаменует воскресение в человечестве Божьего Сына и окончательное освобождение из чувственно-материального плена Мировой Души. «Если человек, отдавая свою душу, – утверждал Иванов, – сумеет всем сердцем своим и всем помышлением своим сказать Богу «Ты Еси, и потому есмъ аз», если он сумеет сказать Христу в лице своего ближнего: «Ты еси, ваш я; я есмъ, потому что ты еси», тогда он вновь обретет свою душу, начнет жить воистину» [62] Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 1. С. 159.
.
Под знаком духовного зиждительства воспринимал миф об Орфее и Андрей Белый. Задолго до Вяч. Иванова, в 1908 году, он писал:»… души наши не воскресшие Эвридики, тихо спящие над Летой забвения: но Лета выступает из берегов: она нас потопит, если не услышим мы призывающей песни Орфея» [63] Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 60.
. Подобного рода предупреждения с обертонами апокалиптических интонаций звучали у Белого и раньше, но в них преобладал культурософский пафос. При этом культура будущего мыслилась как ритм внутренних связей между людьми, а человеческая общность виделась «индивидуальным организмом». В настоящем она представлялась Белому «спящей красавицей», зачарованной сном, ибо представала то примитивной коммуной, то традиционной церковной общиной. Пробудить ее ото сна – значило пробудить ритм внутренних связей между индивидуумами. Тогда «Спящая Красавица» превратится в Софию, Музу жизни, Эвридику… «Лик Красавицы, – писал Белый в статье «Луг зеленый». – занавешен туманным саваном механической культуры, – саваном, сплетенным из черных дымов и железной проволоки телеграфа. Спит, спит Эвридика, повитая адом смерти, – тщетно Орфей сходит в ад, чтобы разбудить ее (…) Пелена черной смерти в виде фабричной гари занавешивает Россию, эту Красавицу, спавшую доселе глубоким сном» [64] Там же. Т. 1. С. 251.
. Здесь образ Орфея осенен и цивилизаторской миссией, он восходит к той литературной традиции, зачинателем которой оказался Гораций. Почти через сто лет греческий оратор Дион Хризостом вернулся к идее римского поэта, хотя мнение о цивилизаторе Орфее он высказал на апофатический манер. Утверждая, что силой своего искусства Гомер превосходил всех, даже Орфея, Дион, как бы оправдывая сравнение, сказал: «Ведь разве заколдовывать камни, растения и диких зверей – это не то же самое, что подчинить себе варваров, для которых чужды сами звуки эллинской речи, которые не знают ни языка, ни событий.» [65] Дион Хрисостом. О Гомере. – Античность в контексте современности. М., 1990. С. 184.
.
Интервал:
Закладка: