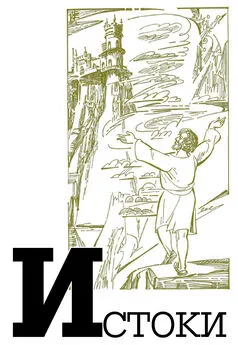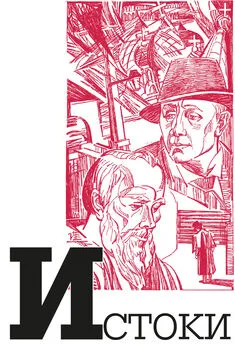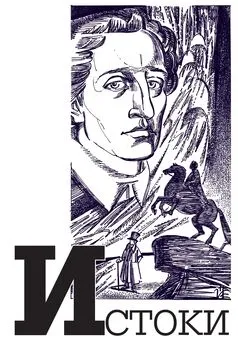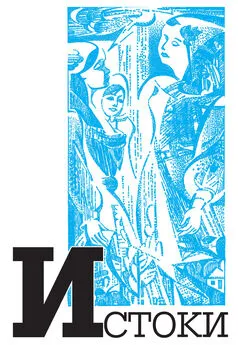Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
- Название:Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:5-91674-122-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология краткое содержание
произведения искусства, как переживание невербализуемого пространства смыслов. Анализируя природу ауры искусства и размышляя над угрозой ее утраты в современной культуре, авторы книги показывают, что вся история искусства являет собой равновеликую потребность человека как в структуре, в опорных точках бытия, так и в бесструктурном, трансцендентном, вечно ускользающем, то есть ауратическом. Выдвигаются концепции эволюции эстетических свойств ауры на протяжении истории искусства в процессе модификации художественных форм. Рассматриваются такие формы ауратичности как
произведений искусства. Исследуются нетрадиционные профили ауратического в современном художественном творчестве. На материале зарубежного и отечественного изобразительного искусства, архитектуры, литературы, музыки, кино, фотоискусства.
Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Смитсон видел свою задачу в том, чтобы показать, что в провалах реальности, разрывах и остановках ее течения открываются подспудные слои, ранее скрытые наносными отложениями «правильного видения», осадочными породами застывших «непреложных истин». В дальних окоемах реальности, в ее покинутых окраинах (в том, что художник удачно называл словом fringe) обнаруживались вещи, еще не названные, не получившие имени и потому незамечаемые, но несомненно существующие. Чтобы вытащить их из темноты, из забвения в дырах реальности, понадобились особые методы, в частности – дуальные оппозиции (место – не-место, зеркало – отражения, наличное – лишь угадываемое), в которых противоположности дополняют друг друга. Английское слово gap , которым часто пользовался Смитсон, имеет значение не только пролома, бреши, но и противоречия, расхождения во взглядах. «Отражения падают на зеркала без всякой логики и таким образом обесценивают любое рациональное утверждение. На другой стороне происходящего – границы невыразимого, и их никогда не удастся уловить» [106].
И все же это невыразимое удавалось если не высказать, то показать, представить в наглядных визуальных моделях. Инсталляции с картами и контейнерами расталкивали спящее воображение, побуждали увидеть сразу, в едином акте, и безмерную пустоту пространства, и кусок твердой породы под ногами. В прямоугольниках зеркал мелькали отражения, и вновь бесконечность реального окружения прерывалась крупными планами мгновенных, исчезающих образов. Выложенная из каменистых пород «Спиральная дамба» представляла в застывшей, незыблемой форме вечную зыбь воды, скрытые в ее глубинах вихревые воронки. Смитсон словно одарил своего зрителя новым зрением, способным перескакивать через темные провалы, соединять разорванные куски, разновременные стадии восприятия.
Можно сказать, что художникам, работавшим in situ , то есть с материалом самой реальности, удалось заглянуть за фасад видимого, представить его оборотную сторону. Их призыв к «революции взгляда» требует от зрителя определенного внутреннего напряжения, мысленной работы с приведенными художником «данными». Лэнд-арт в период его становления мыслился как вариант концептуального искусства. Даниэль Бюрен в начале своей карьеры также принадлежал концептуализму. Здесь можно было бы говорить об ауре как чисто ментальном явлении, сопровождающем произведение в его физическом бытии. Более того, нетрудно заметить, что по мере растекания, рассеивания материального субстрата произведения возрастает роль «ауры» как внутренних действий, собирающих, монтирующих образ по заданному художником плану.
С появлением видеоарта в пластические искусства вторглось то самое техническое репродуцирование, которое, по убеждению Беньямина, разрушало ауру как атрибут подлинности, духовную эманацию, источаемую авторским оригиналом. На первых порах художники осваивали, в основном, кино- и телевизионную технику. В левых кругах 1960-х годов телевидение рассматривалось как инструмент «промывки мозгов», официозного манипулирования сознанием. Приняв афоризм Маклюэна «средство и есть сообщение», художники ТВ-арта соединяли телевизоры и мониторы в «скульптурные» композиции, преобразовывали электронную информацию в искры, вспышки, меняющиеся узоры. Особенно изобретателен в этом был Нам Джун Пайк, создававший эффектные, красивые абстракции, иногда чисто декоративные, в других случаях – концептуального плана.
С появлением легких ручных видеокамер осуществилась давняя мечта художников о динамических изображениях. Персональная видеокамера уже не имела отношения к средствам массовой информации и первоначальный критический пыл стал неуместен.
Выдающийся мастер видеоарта Билл Виола рассматривает видео-технику как инструмент, усиливающий способности глаза. Эта новая позиция видения давала возможность показать необычное в обычном – проникнуть в малое, дотянуться до далекого, замедлить движение и рассмотреть его изнутри, обнаружить неожиданные подобия. «Перетекание» («Migration», 1976), один из ранних произведений Виолы, начинается с длинного плана металлической поверхности и равномерных ударов гонга. Затем в полутьме появляется фигура человека, сидящего перед натюрмортом с чашей. Серия постепенных увеличений выводит на крупный план сначала чашу с водой, затем висящий над нею кран, из которого капает вода. На этой стадии становится понятным, что «гонг» – усиленный микрофоном звук падающих капель (хотя «утяжеленный», инерционный звук несколько отстает от момента соприкосновения капли с поверхностью воды). В следующих кадрах камера фиксирует кран, из которого истекают, медленно вытягиваясь, капли. Далее становится различимым волнообразно вытянутое человеческое лицо, отразившееся в водяной линзе. И гулкий звон капель, пойманный микрофоном, и выпуклая линза воды, замеченная объективом видеокамеры, свидетельствуют о постоянных перетеканиях реальности. В критических, пороговых точках восприятия обнаруживается бесконечная «разрешимость» реальности, последовательные развертывания ее слоев.
В большинстве своих произведений Виола схватывает некие переходные состояния. Текучие, прозрачные субстанции света, воздуха, воды, огня осеняют его персонажей, проходят сквозь них, бережно проносят в пространстве. Его «Посланник» (1996), «Пять ангелов миллениума» (2001) являются в брызгах искр, в ручьях света, обтекающих тела. Свет при помощи видеотехники трактуется как вода, а точнее – как оптическая среда, проявляющая и поглощающая фигуры, поддерживающая их на грани бытия и небытия. Человеческие фигуры здесь – некие сгустки энергии, тела, вылепленные из световых масс. В «Пересечении» (1996) человек останавливается у некой черты, сверху на него начинает падать вода. Она сверкает в лучах света, превращаясь в нимб. Разрастаясь, нимб охватывает всю фигуру и растворяет ее в себе. Теперь сплошной водопад образует плотную завесу, разделившую два мира.
В большом видеофильме «Переход» (1991) Виола снимал совпавшие события смерти его матери и рождения ребенка. Оба эпизода сшиты мотивом сна (временного ухода из реальности и возвращения в нее); все три сюжета плавают в волнах светотеневых потоков. В «Отражающем бассейне» (1977–1979) человек долго стоит на берегу пруда и, наконец, прыгает в него. В момент прыжка его фигура, свернувшаяся в позу эмбриона, зависает в воздухе и постепенно растворяется в древесной листве, в то время как вода реагирует на взлет и невидимое падение слабой дрожью, всплесками и замираниями, расхождениями кругов. Ее тревожат тени проходящих мимо людей, а фигура «утопленника» вновь возникает в зелени деревьев и исчезает, удаляясь в их чащу. «Я часто использовал воду как метафору, – пишет Виола, – поскольку ее поверхность и отражает внешний мир, и действует как преграда к миру иному. Где нет границ, там нет энергии; физики научили нас, что энергия творится на границах» [107].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: