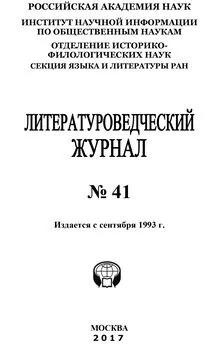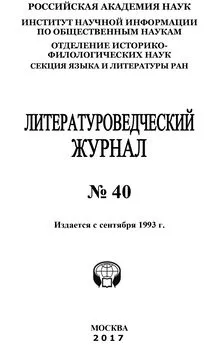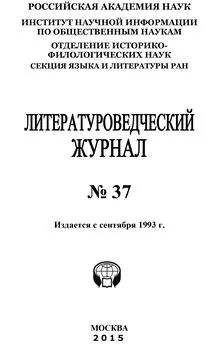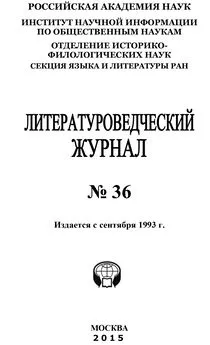Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого
- Название:Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:2010-27
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого краткое содержание
Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Буря на море» оценивается героем Диккенса как Божие наказание: Творец иногда пробует вмешаться в человеческие деяния и по-своему их решить. Ему, по большому счету, все равно, кто из людей прав, кто – неправ: Он привык решать сразу и кардинально.
Тот же самый мотив Толстой мог почерпнуть и из русских «метельных» повестей.
М.О. Гершензон, соотнеся пушкинскую повесть «Мятель» со стихотворением «Бесы», написанным той же «болдинской осенью», представил яркий философский подтекст затейливого сюжета. Героиня повести (Марья Гавриловна), увлеченная романтическим воображением, предалась «навязанному сознанием» чувству к Владимиру. И в ход обыкновенной жизни, в самый ответственный момент, вмешалась Судьба с ее орудием – метелью . Она не позволила простодушной девушке соединиться с «придуманным» возлюбленным, а насильно связала ее с суженым , предназначенным ей (что выяснилось три года спустя). Этот философский подтекст («жизнь-метель») имел биографический характер, сопряженный с судьбой самого Пушкина, которая решалась осенью 1830 г. 12 12 Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. – Томск, 1997. – С. 98–105.
Пушкинский «метельный хронотоп», осмысленный таким образом, увлек, между прочим, и его младшего современника, графа В.А. Соллогуба. В 1849 г. он напечатал свою повесть «Мятель», в которой развивалась, в общем, похожая идея 13 13 См.: Соллогуб В.А. Повести. Воспоминания. – Л., 1988. – С. 328–342.
. Светский офицер, застигнутый метелью, вынужден ночевать на бедной почтовой станции. Там, среди прочих, он встречает молодую женщину и сразу понимает, что она – его суженая . Но единение «суженых» невозможно: она уже замужем. В «метельном» единении времени и пространства (где, по Пушкину, «небо слилося с землею») звучат слова любви, но они бесполезны. «Метель кончилась» (последняя фраза повести), и с ней прекратилось особое очарование того взора Судьбы, который она временами обращает к человеку.
И повесть Пушкина, и повесть Соллогуба называется не «Метель», а «Мятель» (через «я»). Литературной нормой пушкинского времени считалось написание через «е» (Соллогуб в специальном примечании оправдывался, что не «посмел изменить» принятого Пушкиным написания). Но Пушкин предпочел употребить в заглавии «высокий» архаизм, прямо выводящий на близкие понятия: «мятеж», «смятение», «смута».
Если верить дневнику Дружинина, как раз в период наиболее активной работы над своим рассказом, 29 января 1856 г., Толстой в «ареопаге» «Современника» обсуждал «предполагаемое собрание очищенных творений Фета» 14 14 Дружинин А.В. Повести. Дневник. – С. 373.
(этот новый «очищенный» сборник Фета вскоре вышел под редакцией Тургенева). Среди стихов, исключенных из сборника, была баллада Фета «Мятель» (1847, заглавие тоже через «я»), в свое время популярная у читателей и критики.
Фет – вслед за Пушкиным – тоже поэтизирует магию «метельного хронотопа», представляя ее в виде незамысловатой «простонародной» сценки, написанной, как и пушкинские «Бесы», четырехстопным хореем:
Ночью буря разозлилась,
Крыша снегом опушилась,
И собаки – по щелям.
Липнет глаз от резкой пыли,
И огни уж потушили
Вдоль села по всем дворам…
Лишь в одинокой избушке брат пеняет сестре, которую – с маленьким ребенком – бросил ее возлюбленный. Он угрюм и сердит, он грозится найти «обидчика» и расчесться «с ним по-свойски». «Ветер пуще разыгрался; / Кто-то в хату постучался». Просится переночевать некий сбившийся с пути в метели «прохожий». Вошел и остановился, «точно громом поражен»: это и есть «обидчик» собственной персоной:
Все молчит, – лучина с треском
Лишь горит багровым блеском,
Да по кровле ветр шумит 15 15 Фет А.А. Полн. собр. стихотв. – Л., 1959. – С. 436–437.
.
В лучших балладных традициях Фет не дает разрешения конфликта. Да и не нужно этого «разрешения», мысль автора и без того ясна: метель опять сыграла роль «перста Судьбы»: человек, сбившийся с дороги, попал как раз в ту избу, где его ждали и где ему следует «расчесться». «Метельный хронотоп» вмешивается в людское бытие, «поправляя» его «неправильности».
В рассказе Толстого как будто нет ничего подобного. Кажется, что перед нами этакий замысловатый очерк, даже и не предполагающий какого-то философского «глубинного» внутреннего смысла. Кажется, что Толстому для чего-то захотелось представить самоощущение человека (повествовательного «я»), застигнутого метелью, и описать, в мельчайших деталях, это самоощущение. Но в таком случае сама задача осмыслить «метельный хронотоп» попросту исключалась автором. Не случайно же Аксаковым детали его описания показались ненужными и «утомительными».
В ряде исследований содержание толстовского рассказа сводится к попытке понять «русскую деревню и русского мужика. Под ямщицким армяком, так же, как и под солдатской шинелью в “Рубке леса”, обнаруживались типические черты русского крестьянина» 16 16 Бурнашева Н.И. Комментарии / Толстой Л.Н . Собр. соч.: В 22 т. Т. 2. – М., 1979. – С. 401.
. Но почему же тогда столь большое место в рассказе уделено переживаниям «барина»? И отчего сам Толстой, переживший в дороге метельную ночь, назвал в дневнике эту метель поразительной ?
В толстовских описаниях – только видимая «дотошность». На самом деле эти описания вполне свободны от «мелочей», начиная с начального указания, что автор «не помнит» названия почтовой станции, близ которой с ним случилось описанное происшествие. Повествователь как будто видит и чувствует только то, что в общем-то и «положено» видеть и чувствовать седоку в санях: конские хвосты, гривы и копыта, спину ямщика в большой «неуклюжей» шапке, ощущает неприятный скрип полозьев, монотонный звон колокольчика, который в критические минуты становится похож на «колокол» и выводит странную «терцию». Эти однообразные впечатления, меняющиеся на различных этапах переживаемой метели, перемежаются снами и видениями путника. Перед Дэвидом Копперфилдом образ «бури на море» восстает как бы в «полусне», в некоем «замедленном» времени, очень напоминающем «метельный хронотоп», реализованный в рассказе Толстого.
Как известно, человека, борющегося с метелью и ослабевшего, неудержимо тянет ко сну, этот сон может быть и губительным, и спасительным. Так, в очерке Аксакова «Буран» четверо из десяти мужиков, сопровождавших застигнутый страшным ненастьем обоз, спаслись именно потому, что решились переночевать в степи; через две ночи их нашли «в сонном, беспамятном состоянии», сумели «разбудить» и отогреть (шестеро остальных, пытаясь выйти на дорогу, погибли). Но все равно, подчеркивает Аксаков, этот сон был «не настоящим», а «метельным».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: