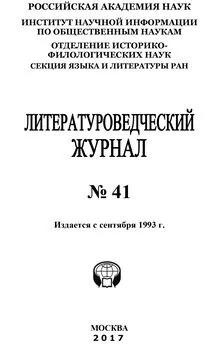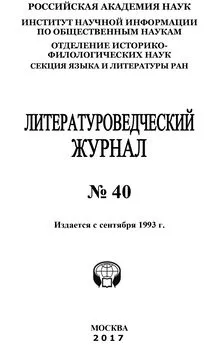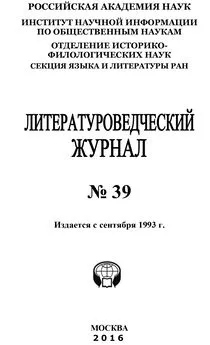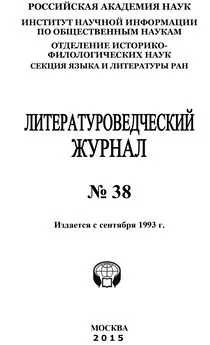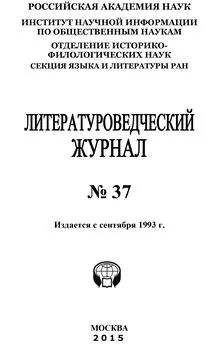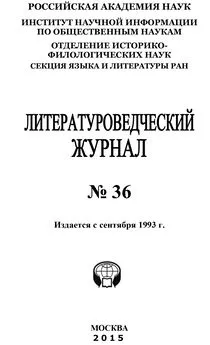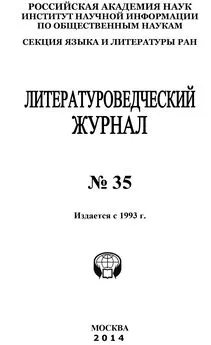Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 31
- Название:Литературоведческий журнал № 31
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:LJ_31_2012
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 31 краткое содержание
Литературоведческий журнал № 31 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Ефраимский левит» был написан в исключительных обстоятельствах, о которых рассказано в XI книге «Исповеди», – в дороге, во время бегства из Франции после осуждения «Эмиля» Парижским парламентом в июне 1762 г. Не исключено, что Руссо усматривал аналогию между заговором, который, как он считал, против него составился, с покушением на левита развращенных жителей Гивы, но важней для него было сознание, что в результате как писатель он возвысился над сиюминутными личными переживаниями: «Соберите всех великих философов, обнаруживающих в своих книгах такую стойкость против бедствий, которых они никогда не испытывали; поставьте их в положение, сходное с моим, и предложите им в первую минуту негодования за поруганную честь написать подобное сочинение: вы увидите, как они справятся с этим» 9.
«Ефраимский левит» стал чем-то вроде художественного аргумента в защиту «системы» Руссо, к этому времени уже сложившейся и изложенной в только что опубликованных сочинениях («Юлия, или Новая Элоиза», 1761; «Об общественном договоре, или Принципы политического права», 1762; «Эмиль, или О воспитании», 1762), своего рода иллюстрацией к ней – тем более убедительной, что поэма основывалась не на вымысле, а на историческом, к тому же библейском сюжете. Обвиненный в безбожии, Руссо апеллировал к авторитету Священного Писания.
Эпоха Судей, когда «не было царя у Израиля» и «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд 21:25; ср. у Руссо: «Dans les jours de liberté ou nul ne régnoit sur le peuple du Seigneur <���…> ou chacun <���…> faisoit tout ce qui lui sembloit bon» – p. 165), очевидно, по Руссо, была временем естественного состояния человека, до возникновения «общественного договора», и люди еще не были развращены науками и искусствами. Однако мрачная история, пересказанная в поэме, случилась именно в те времена, что, казалось бы, свидетельствовало против руссоистской концепции «естественного человека» и оправдывало современную цивилизацию. Это не преминул заметить Н.М. Карамзин, полемизировавший с известным трактатом Руссо в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1794): «Самые отдаленнейшие времена, освещаемые факелом истории, – времена, в которые искусства и науки были еще, так сказать, в бессловесном младенчестве, – не представляют ли нам пороков и злодеяний? Сам ты, о Руссо! животворною своею кистию изобразил одно из сих страшных происшествий древности, которые возмущают всякое чувство и показывают, что сердце человеческое осквернилось тогда самым гнуснейшим развратом» 10.
Руссо, однако, «изобразил» не только «пороки и злодеяния», но и жестокое возмездие, мысль о справедливости и необходимости которого – одна из главных в поэме, начинающейся с призвания «святого гнева добродетели» («Sainte colère de la vertu, viens animer ma voix…» – p. 165). Выступление всего Израиля против покрывавших преступников вениамитян, решение о котором было принято на общем собрании, есть уже гражданское действие народа-суверена, согласное с идеями трактата «Об общественном договоре». По сути, в четырех песнях поэмы показан путь от первобытной невинности и свободы (I), через преступление (II) и войну (III), к созданию общественного договора (IV). Руссо как бы указывает на исторический прецедент идеального общественного устройства, засвидетельствованный Священным Писанием. В частности, скорый суд народного собрания по делу левита и однозначный приговор, вынесенный преступникам, Руссо считал образцовыми, противопоставляя их современному цивилизованному правосудию: «В наши дни подобное дело затянулось бы надолго, обрастая речами адвокатов, спорами, а может быть и шутками, и в конце концов ужаснейшее преступление осталось бы безнаказанным» 11.
В «Ефраимском левите» есть несколько не находящих соответствия в «Книге Судей» эпизодов и домысленных деталей. Меньше всего их во II и III песнях, посвященных преступлению и наказанию (войне): здесь Руссо присочинил только смерть левита после выступления перед народом и погребение его вместе с возлюбленной. Гораздо существенней вставки в первой и заключительной песнях, имеющих, по сути, программный характер: если во второй песни преимущественно имитируется «библейский» стиль, в третьей – стиль героического эпоса, то в первой и четвертой преобладает пасторальный стиль, наиболее адекватный идеологии руссоизма или, по крайне мере, расхожим о ней представлениям. Эти наименее «библейские» песни несли наиболее актуальную для читателей эпохи сентиментализма информацию и должны были вызывать наибольший их интерес. Неудивительно, например, что в переводе Жуковского именно в этих песнях больше всего характерных отклонений от оригинала.
В начале I песни показана отнюдь не библейская картина отношений левита («молодого», как уточняет Руссо) и его возлюбленной (нигде, конечно, не названной наложницей). Здесь очевидно прямое влияние идиллий Соломона Геснера 12. Это чистая любовная утопия, идейный пафос которой в апологии естественного и свободного чувства, поставленного выше любого закона, а значит безгрешного. Именно к свободному сожительству, чуждому всякого принуждения, призывает левит девушку:
«…je ne puis t'épouser selon la loi du Seigneur. Mais mon cœur, est à toi; viens avec moi, vivons ensemble; nous serons unis et libres; tu seras mon bonheur, et je serai le tien» (p. 165).
Ср. в переводе Пельского: «…я не могу сочетаться с тобою по закону Господнему; но сердце мое тебе отдалось; ступай со мною, мы соединимся и будем вольны; ты соделаешь мое щастие, а я твое» (с. 6–7).
Принципиальный характер предложения левита не укрылся от русских переводчиков, что видно из сравнения текста Пельского с переводом Жуковского:
«…я не могу быть супругом твоим по закону Божию. Но мое сердце принадлежит тебе; приди в дом мой; живи со мною; будем свободны в своем союзе и счастливы друг с другом» (с. 397).
Из двух фраз левита («viens avec moi, vivons ensemble») Пельский опустил вторую, выдвинув, таким образом, идею взаимной независимости любящих (просто «ступай со мной»), а Жуковский, наоборот, заменил первую: вместо нейтрального «иди со мной» («viens avec moi») у него более обязывающее «приди в дом мой». Ему дорога мысль о супружестве, освящаемом не законом, а взаимной любовью. Идея свободных отношений гораздо меньше его занимает, поэтому и выражение «будем соединены и свободны» («nous serons unis et libres»), в которой есть определенная диалектика и равновесие, у Жуковского передано как «будем свободны в своем союзе» («союз» здесь, конечно, первичен). Переводчики по-разному расставили акценты, но оба сочли нужным скорректировать Руссо в соответствии со своими вкусами (несомненно, по крайней мере, что Жуковский сделал это сознательно).
Во второй половине I песни любовная идиллия сменяется патриархальной. В «Книге Судей» говорится лишь об отце наложницы левита, а в поэме у нее появляются также мать и сестры. Руссо это понадобилось для полноты картины: он изображал счастливую семью простых поселян, живущих в согласии с природой и хранящих обычаи гостеприимства (с этой пасторалью разительно контрастирует развращенность и непомерная злоба горожан – жителей Гивы, в которой левит и его несчастная подруга окажутся во II песни). Это апология семейной жизни, столь же нетребовательной и свободной, как отношения молодых любовников, поскольку в обоих случаях мы имеем дело с первобытной, внушенной самой природой моралью. Левит убеждает отца девушки отпустить ее с ним двумя простейшими и «естественными» аргументами:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: