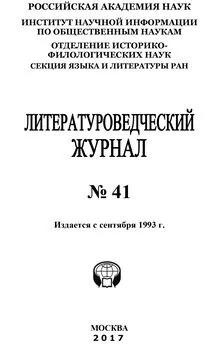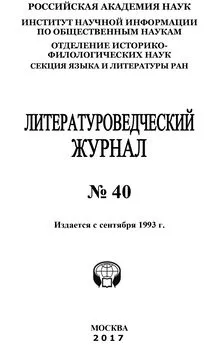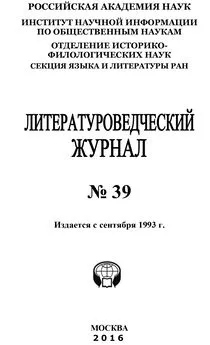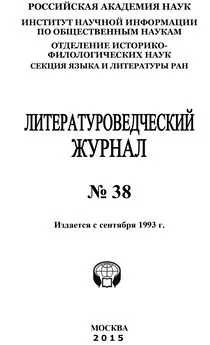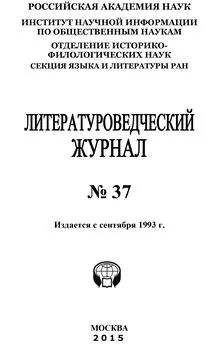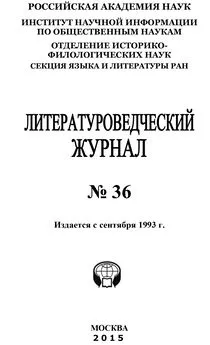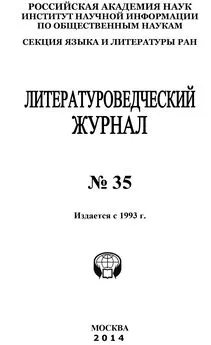Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 32
- Название:Литературоведческий журнал № 32
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:LJ_32_2013
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 32 краткое содержание
Литературоведческий журнал № 32 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Историческая роль М.Н. Каткова определяется прежде всего тем, что он первый во время реформ 1860-х годов выступил с критикой антирусских тенденций в писаниях Герцена в «Колоколе» и нигилистов-революционеров, обосновавшихся в журнале «Современник». В статье в журнале «Современная Летопись» 16 мая 1862 г. Катков называет Герцена «свободным артистом», который «сериозно воображает себя представителем русского народа, распорядителем его владений, и действительно вербует себе приверженцев, во всех уголках Русского царства, и сам сидя в безопасности, за спиною лондонского полисмена, для своего развлечения высылает их на разные подвиги, которые кончаются казематами или Сибирью, да еще не велит “сбивать их с толку” и “не говорить ему под руку”?».
6 июня 1862 г. Катков пишет в «Современной Летописи» статью, еще не называя имени Герцена, которое находилось под цензурным запретом. Катков иносказательно полемизирует с Герценом и его сторонниками, которых он именует «заграничными беженцами»: «Наши заграничные refugiés (мы хорошо знаем, что это за люди) находят, что Европа отжила свое время, что революции не удаются в ней, что в ней есть много всякого хлама, препятствующего прогрессу, как например: наука, цивилизация, свобода, права собственности и личности, – и вот они вызымели благую мысль избрать театром для своих экспериментов Россию, где, по их мнению, этих препятствий нет или где они недостаточно сильны, чтобы оказать успешный отпор. Они пишут и доказывают, что Россия есть обетованная страна коммунизма, что она позволит делать с собою что угодно, что она стерпит всё, что оказалось нестерпимым для всех человеческих цивилизаций. Они уверены, что на нее можно излить полный фиал всех безумств и всех глупостей, всей мертвечины и всех отседов, которые скоплялись в разных местах и отовсюду выброшены, что для такой операции время теперь благоприятно и что не надобно только затрудняться в выборе средств. Все эти прелести с разными гримасами появились в русских заграничных листках, – все оне воспроизводятся и развиваются в подметных прокламациях, которые появляются в самой России и которые были бы невозможны нигде, кроме России».
Действительно, такой «полный фиал всех безумств», какой произошел в результате большевистского переворота 1917 г. и «всей мертвечины» в буквальном смысле за годы советской власти, случился именно в России. Народ «позволил делать с собою что угодно» и стерпел в течение семи десятилетий то, что «было бы невозможно нигде, кроме России». Поистине, «терпеньем изумляющий народ», как сказал поэт. Выходит, все предупреждения Каткова оказались втуне, и политические экспериментаторы, маня сияющими вершинами коммунизма, сумели сотворить в России то, что хотели. Россия не вняла словам Каткова и поплатилась своей горькой судьбой в ХХ столетии. Как писал М. Пришвин в недавно опубликованном дневнике 9 октября 1937 г., у нас получился «народ, плененный своим собственным правительством».
В «Русском Вестнике» (1862. Июнь; номер вышел в июле), игнорируя цензурные запреты, Катков прямо обратился к Герцену в статье «Заметка для издателя “Колокола”» и дал оценку его выступлений в «Колоколе» с точки зрения интересов России. Пытаясь надеть на себя маску руководителя национально-освободительной борьбы, наподобие Дж. Мадзини и Л. Кошута, Герцен захотел стать «генералом от революции». Однако, пишет Катков, «родина его не разделена и не находится под иноземным политическим игом; тяжкая и трудная история создала ее великим цельным организмом; русский народ, один из всех славянских, достиг политического могущества и стал великой державой; благодаря ему славянское племя не исчезло из истории… Государственное единство есть благо, которым русский народ дорожит и должен дорожить, если не хочет обратить в ничто дело тяжкого тысячелетия и исчезнуть с лица земли. Это основа его национального бытия, купленная дорогой ценой, и он должен крепко держаться ее, и он крепко ее держится».
Лишенный «всякой ответственности, ничем не рискуя», Герцен «издали поджигает человеческие страсти». Предвосхищая за полвека большевистские идеи «всемирной революции», он нашел себе понимание и поддержку у идеологов большевизма. И хотя лозунг «мировой революции» был снят большевиками после поражений 1920-х годов, симпатии советских коммунистов к наследию Герцена оставались неизменными все годы.
Герцен, пишет Катков, проповедовал «кровавые реформы». Вспоминая прокламацию, распространявшуюся в Москве и Петербурге под названием «Молодая Россия», Катков приводит «содержание этого безобразного изделия наших революционеров», требовавших «ни более ни менее как признать несуществующим Бога, затем уничтожить брак и семейство, уничтожить право собственности, открыть общественные мастерские и общественные лавки, достигнуть всего этого путем самого обильного кровопускания, какого еще никогда не бывало, и забрать крепко власть в свои руки».
Читая такое, думаешь, будто листаешь воспоминания человека, уже пережившего ужасы первых лет господства большевиков. То ли еще было в период оккупации России большевистской мафией! Такая программа «обильного кровопускания» и легла в основу теории ленинизма с ее лозунгом «диктатура пролетариата», означавшим на деле уничтожение всех сословий в России, кроме партийного и околопартийного. Понятие классов, заменившее прежнее представление о сословиях, было использовано «ради революционной целесообразности» для уничтожения всех классов, не отвечавших представлению о «советском обществе».
Писатель Н.М. Павлов рассказал со слов очевидца, как Герцен получил в Лондоне и прочитал статью Каткова в «Русском Вестнике». Взяв из рук Огарёва только что полученный журнал, Герцен предложил прочитать текст вслух. «Это обращение, как нельзя более, понравилось всем, – повествует очевидец, – смеялись, радовались, просили читать. Он начал. Статья, действительно, была им прочитана вслух, от начала до конца. По мере того как он читал, всему обществу делалось все неловче и неловче, а особливо против того игривого настроения духа, с которым приступили к чтению. В начале еще – Герцен то и дело вставлял от себя отрывочные заметки, иногда очень ловко и остроумно, так что даже все смеялись. Но чем дальше, тем Герцен становился тише, наконец и вовсе ничего не прибавлял от себя; чтение становилось все тяжелее как для него, так и для всех. Вторая половина была уже прочтена мрачно и выслушана в молчании: уж никто и из слушателей не вставлял от себя никаких заметок – хоть бы полусловом. Слушатели не знали, как и досидеть до конца чтения, а чтец, очевидно, не знал, как и дочитать. Когда Герцен кончил, в комнате воцарилась гробовая тишина, – тут уж окончательно стало неловко до немоготы. Герцен закрыл книгу и также ничего не говорил; его собственное и такое долгое молчание еще более сконфузило всех. Наконец он сказал: “Можно ли так ругаться? Как это терпится такая ругательная литература? Это просто ругательство. На это и отвечать с моей стороны нечего: это ругательство”. Вечер, начавшийся, было, весьма оживленно, кончился, таким образом, как-то неудачно. После того мы скоро взялись за шляпы и разошлись» 1 1 Павлов Н.М . Полемика Каткова с Герценом // Русское Обозрение. – 1895. – № 5. – С. 323.
.
Интервал:
Закладка: