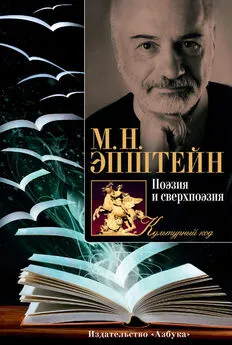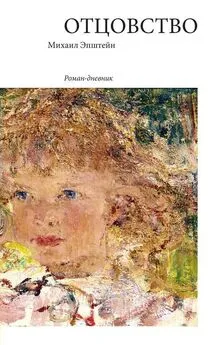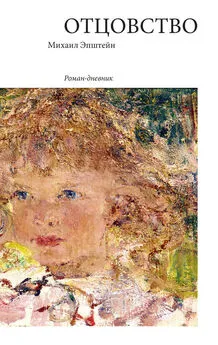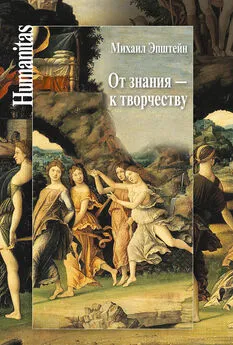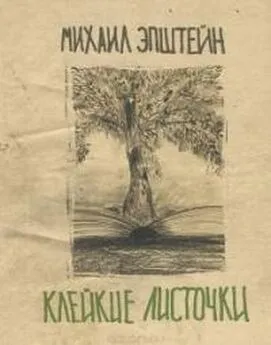Михаил Эпштейн - Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров
- Название:Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2016
- Город:СПб
- ISBN:978-5-389-12825-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Эпштейн - Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров краткое содержание
Его новая книга посвящена поэзии как особой форме речи, в которой ритмический повтор слов усиливает их смысловую перекличку. Здесь говорится о многообразии поэтических миров в литературе, о классиках и современниках, о тех направлениях, которые сформировались в последние десятилетия XX века. Но поэзия – это не только стихи, она живет в природе и в обществе, в бытии и в мышлении. Именно поэтому в книге возникает тема сверхпоэзии – то есть поэтического начала за пределами стихотворчества, способа образного мышления, определяющего пути цивилизации.
В формате pdf А4 сохранен издательский макет, включая именной указатель и предметно-именной указатель.
Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Напряженность «ролевого» поведения пронизывает все вокруг, захватывая не только исполнителей, зрителей, но и их слуг. Гайдуки, в отличие от пушкинских утомленных лакеев, исправно несут свою службу, в ожидании господ стоят наготове с шубами, а не спят на них. Да и сама фигура гайдука колоритна, не в пример простому лакею: рослый, осанистый молодец в венгерской или казачьей одежде – чем не театральный статист? Гайдук – лакей парадный, декоративный. Стоит на мраморной лестнице, держит тяжелую шубу; во всех вещах подчеркнута высшая степень качества, доходящая до роскоши, изысканности, – чем не театральный реквизит? Театр выходит за пределы зрительного зала: все эти гайдуки, мраморные лестницы, тяжелые шубы – как бы продолжение сцены. Будничное возводится в ранг искусства. Даже извозчики, которые у Пушкина «бранят господ и бьют в ладони», у Мандельштама «пляшут вокруг костров», то есть включаются в сценическое действо, – их захватывает кружение валькирий.
Тут не театр приобщен к жизни, но жизнь насквозь театральна. Не эстетическая иллюзия нарушается в пользу житейского, безыскусного, но действительность эстетизируется и превращается в факт искусства. Вот откуда «громоздкая опера»: она разбухла, захватив в себя и то, что к ней не относится: и лестницы, и лакеев, и извозчиков. Все, что просто живет, наделяется ролью, мир превращается в сцену.
Далеко не случайно, что опера, описанная в этом стихотворении, принадлежит Вагнеру («Валькирия» – вторая часть грандиозного «Кольца нибелунгов»). Трудно было бы найти лучший пример «захватнического» отношения искусства к жизни. Вагнер задумал свой театр как синтез искусств (поэзии, музыки, танца, живописи…), призванных в своей сплоченности к полному преобразованию общества. «Искусство и его учреждения… могут… сделаться предвестниками и моделью всех будущих коммунальных учреждений… вся наша будущая социальная организация, если мы достигнем истинной цели, будет и не сможет не носить художественный характер…» [55] Вагнер Р. Искусство и революция // Избранные работы. М., 1978. С. 141.
Вся культурная атмосфера России начала XX века была насыщена идеями Вагнера, он был кумир и предшественник младших символистов с их пониманием искусства как теургии – богослужения и преображения жизни. О том, насколько прочно запечатлелась в сознании русских символистов вагнеровская утопия «художественной революции», свидетельствует статья А. Блока, записанная в 1918 году, в эпоху, мало оправдывавшую любые эстетические притязания. Не только заголовком своим, но и основным содержанием эта статья воспроизводит вагнеровскую идею революции как торжества искусства, как победительного и завоевательного действия «человека-артиста» (вагнеровский термин, часто звучащий в послереволюционной публицистике Блока). «Вагнер все так же жив и все так же нов, – пишет Блок 12 марта 1918 года, – когда начинает звучать в воздухе Революция, звучит ответно и Искусство Вагнера… ибо искусство, столь „отдаленное от жизни“ (и потому – любезное сердцу иных), в наши дни ведет непосредственно к практике, к делу…» [56] Блок А. Искусство и революция // Блок А. Сочинения: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 232.
Вот почему упоминание валькирий в первой строке мандельштамовского стихотворения сразу влечет за собой дальнейшую цепь ассоциаций, связанных с идеей победного шествия искусства по жизни. Несколькими штрихами Мандельштам набрасывает эскиз того мира, который рисовался утопическому воображению Вагнера и русских символистов. Но сам Мандельштам – вовсе не символист и не поклонник немецкой мечтательности. Акмеизм как искусство «прекрасной ясности» имеет отчетливую романскую направленность, противоположную символизму с его ориентацией на германский спиритуализм, отвлеченность, метафизику. Полемика с вагнерианством (так же, как с гегелианством) – составная часть акмеистской программы возвращения искусства к самому себе.
Мандельштам обладает трезвостью предметного мышления, ясным видением вещей в их чуждости и неподатливости всемирно-преобразовательным устремлениям духа. Все его стихотворение – о том, что опера, переросшая свои законные границы, посягнувшая на суверенитет жизни, стала чересчур громоздкой и идет к концу . «Уж занавес наглухо упасть готов…» Готов – и ничто его не остановит: в конце стихотворения прозвучит это веское слово «конец», за которым уже действительно ничего не последует. Между начальными строками первого и второго четверостишия есть подчеркнуто контрастное соответствие: ведь слова «летать» – «падать», «петь» – «наглухо» – это почти строгие семантические антонимы. На полет валькирий и пенье смычков занавес готовится ответить действием прямо антитетическим – глухим падением . Он подобен гильотине, отрубающей голову громоздкому чудовищу – вагнеровской опере, а редкие рукоплесканья в пустеющем зале – последние судороги ее остывающего, обезглавленного тела.
По сравнению с пушкинской строфой у Мандельштама подчеркнуто и характерное для эпохи наступление искусства на жизнь, и характерное для самого автора осознание такого «агрессивного» искусства, «симулякра» как обреченного, доживающего свои последние дни. Смысловая переакцентировка, внесенная Мандельштамом в пушкинскую тему, особенно рельефно выступает в новом использовании частиц «еще» – «уже», составляющих стержень обоих поэтических текстов. У Пушкина «еще» предпослано каждой фразе, рисующей обстановку внутри и вне театра, – это слово повторяется пять раз через каждую строку; и лишь в последнем двустишии, относящемся к герою, Онегину, появляется «уже». Смысл в том, что представление еще продолжается, еще в полном разгаре, и только для одного Онегина оно уже закончено. У Мандельштама все наоборот: представление уже кончается и только один зритель еще продолжает рукоплескать. Потому он и назван «глупцом», что не замечает изменившейся реальности. Это глупец в высоком смысле слова – преданный до конца тому прекрасному и возвышенному зрелищу, которое доживает свои последние минуты перед падением неумолимого занавеса. И ведь он, сидящий в райке, на самой периферии этого блестящего театрального царства, должен, казалось бы, острее других чувствовать начало всеобщего разъезда. Но он остается дольше других, верный своему театральному пристрастию, – тогда как Онегин, быстро разочаровавшийся в театре, как и в прочих дарах аристократической культуры, уходит раньше других. Причем уходит из партера [57] Точнее, из кресел перед партером – самого привилегированного места в иерархически организованном зрительном зале той эпохи.
, покидает притягательный центр этого театрального мира.
Интервал:
Закладка: