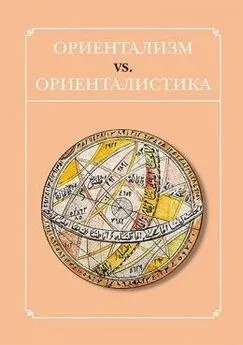Array Сборник статей - Ориентализм vs. ориенталистика
- Название:Ориентализм vs. ориенталистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Садра
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906016-88-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник статей - Ориентализм vs. ориенталистика краткое содержание
Для широкого круга читателей.
Ориентализм vs. ориенталистика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Перевод с английского Рузаны Псху
НОЖНИЦЫ ДЛЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: «ВОСТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ [192]
А. К. Бустанов
С учреждением Азиатского музея в Санкт-Петербурге в 1818 г. возник новый центр русского востоковедения, ставший известным благодаря его коллекции рукописей и историко-филологическим исследованиям письменных источников. Даже после перевода академического Института востоковедения из Ленинграда в Москву в 1950 г. отдел рукописей остался на прежнем месте в Ленинградском отделении Института востоковедения, по-прежнему воспринимавшемся в качестве школы классического, неполитического, филологического востоковедения. Эта нарочитая дистанцированность от политики являлась общим местом для ленинградских востоковедов. Предполагаемая «аполитичность» классических востоковедов связана с образом ленинградской интеллигенции в целом, обычно описываемой высокими идеалами и ценностями, мало интересующейся политикой. Тем не менее в этой статье я хочу показать, что в советскую эпоху ленинградская интеллигенция и среди них востоковеды оказались в ситуации, когда вовлечение в политику стало неизбежным.
В этой статье я предлагаю анализ нескольких филологических проектов, проводившихся в основном ленинградскими востоковедами между 1930-ми и 1970-ми годами. Эти проекты заслуженно считаются гордостью советской науки. В то же время они ярко демонстрируют механизмы вовлечения восточной филологии в политику. Мой основной тезис заключается в следующем: хотя источниковедение в Ленинграде осталось далеким от вульгарной государственной идеологии, издательские проекты в области востоковедения начинались и велись по политическому заказу и затем использовались как основные источники для официальных исторических нарративов, особенно в новых советских метаисториях для каждой из среднеазиатских республик. Что касается публикации источников в Ленинграде в 1930-е годы, после Второй мировой войны они стали основой для полномасштабных республиканских историй, нацеленных показать преемственность с древнейших времен до середины XX в.
Обычно ученые объясняют преимущественно аполитичный характер петербургской/ленинградской школы востоковедения очевидным влиянием немецкой традиции, предположительно, менее связанной с колониальными практиками, чем востоковедческие школы Британии и Франции. Многие крупные русские востоковеды начала XX в. были немцами по происхождению и представляли немецкую модель текстологического востоковедения [193], в основном с фокусом на древние тексты [194].
Смогли ли востоковеды-филологи дистанцироваться от советской политики? Как они действовали в академической системе, созданной большевиками? В какой степени дореволюционные традиции классического востоковедения в Санкт-Петербурге были продолжены или же мы должны действительно вести речь о разрыве традиций? Есть ли связь между источниковедением и национальным строительством в Средней Азии? Можно ли считать сам язык и методы классического востоковедения в среднеазиатских республиках колониальным?
Инструменты советской политики в научной сфере заключались в институтах, дискурсах и ежедневном управлении советской наукой. Анализ этих инструментов показывает высокую степень политизации советского востоковедения. С тем чтобы концептуализировать этот инструментарий, я предлагаю использовать термин «восточные проекты» [195]. Под «восточными проектами» я понимаю важные академические программы в советском востоковедении различного объема, длительности и содержания. Обычно они начинались с заявки в Президиум Академии наук СССР или соответствующие институты республиканского уровня [196]. Эти заявки писались ведущими учеными в данной области, нередко по политическому заказу. «Восточные проекты» проводились большими коллективами специалистов, объединяли ученых разных специальностей из нескольких учреждений в центре и на периферии. Первичные заявки, сохранившиеся в архивах академических институтов, обычно включают обоснование необходимости проекта – здесь речь шла скорее о политическом весе замысла, нежели о его чисто научных достоинствах. Эти документы показывают, что авторы заявок вполне осознавали политизированный контекст научной инициативы и пытались его использовать для своих целей. Кроме того, заявки обычно предоставляют информацию о предыдущем исследовательском опыте, включают рабочий план и бюджет, нередко достигавший внушительных сумм. Я предлагаю называть эти проекты «восточными», потому что в их основе лежали перевод и издание арабских, персидских и тюркских рукописей – главное занятие классического востоковедения. Иногда заявка на проект фокусировалась не на одном регионе, а на нескольких, т. е. источники по истории одной или нескольких республик должны были публиковаться в течение нескольких лет. В таком случае проекты могли превращаться в длительную научную программу. «Восточные проекты» могли также функционировать как крупные кампании, например, как советские археологические экспедиции в Хорезме или Отрарском оазисе [197]. Тем не менее не все «восточные проекты» оказались хорошо задокументированы. Иногда мы находим в архивах только черновики без дальнейшего развития документации, в то время как в других случаях мы имеем дело с полной историей проекта от начала до финальных публикаций его итогов. В этих случаях возможно даже сравнивать разные политические нарративы и связывать их с отдельными научными темами.
«Восточные проекты» являются прекрасным поводом для анализа двух характерных черт академического советского востоковедения: его коллективного характера (работа в больших «бригадах») и центрального планирования. Если ранее научные начинания в Российской академии наук были результатом частных инициатив, за исключением, быть может, крупных экспедиций, начиная с 1930-х годов советская система заставила ученых работать в больших научных коллективах над длительными проектами с четко определенным планом работы и очевидными политическими целями. Важно, что темы работ назначались, а не вырабатывались самими исследователями. Большие проекты велись руководителями, несущими ответственность за успех начинания перед Академией. Нередко эти руководители превращались в «монополизаторов науки», поскольку, как только руководитель проекта сумел установить связь между Академией и руководством Партии, он получал свободу на разработку своих теорий и развитие амбиций. Конечно, «восточные проекты» могли как ограничивать, так и расширять возможности их участников. В любом случае они являлись ключевым инструментом для взаимодействия между центрами и перифериями советского востоковедения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: