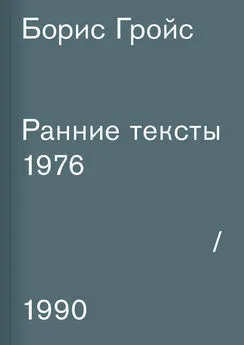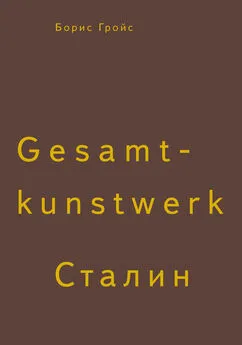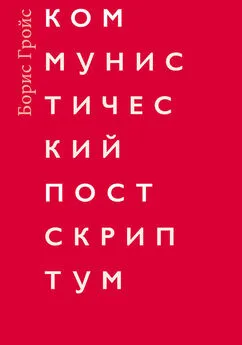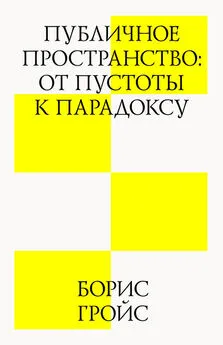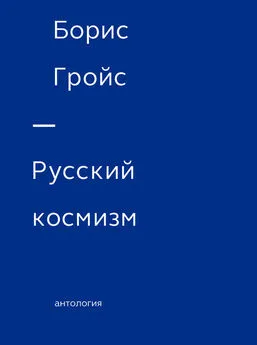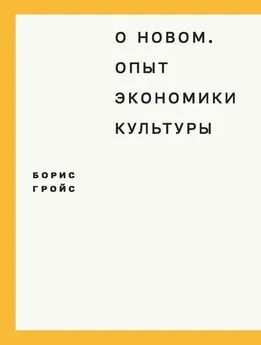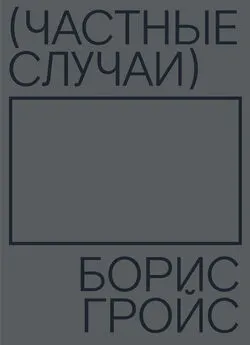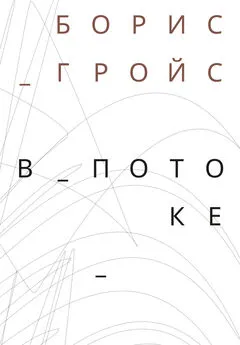Борис Гройс - Ранние тексты. 1976–1990
- Название:Ранние тексты. 1976–1990
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-339-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Гройс - Ранние тексты. 1976–1990 краткое содержание
Ранние тексты. 1976–1990 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между двумя возможностями бытия Dasein нет ничего среднего и нет ничего общего. Они абсолютно противопоставленны друг другу. Выбор одной из них просто уничтожает другую. Это создает между двумя Dasein, существующими в двух различных модусах бытия, непреодолимую пропасть. Хайдеггер намеренно подчеркивает, что не существует предпочтения одной возможности – другой. И даже более того, неподлинная возможность в некотором роде неизбежна. «Подлинная» же возможность бытия есть, в сущности, бытие профессионального философа. Его жизнь и деятельность в лучших кьеркегоровских традициях неотличима от мирской суеты, однако ужас и трепет перед «ничто» внутренне отделяют от нее самого философа.
Кьеркегор и Ницше разверзли пустоту между двумя полюсами существования, вонзили «жало в плоть». Хайдеггер вынул жало из плоти и расположил вместо него свою экзистенциальную аналитику. Напряжение между двумя модусами бытия заменилось профессионализацией каждого из них. Но с этого момента всякая деятельность профессионального философа лишилась значения, так как не конституирует более философскую судьбу человечества, а повторяет лишь свои собственные исторически реализованные формы.
Философия, несмотря на античные реминисценции Хайдеггера, не стала у него также и учительницей умирать. По той простой причине, что учить стало нечему. Люди античности возбуждались к действию силой самой природы. Их надо было скорее обуздать, чем побудить к чему-либо. Наши современники остаются в неподвижности, если не знают цели и причины движения. Философия стала профессиональным внутренним трепетом частных лиц, трепеща дающим совет остальным решительно продолжать жить в том же духе, что и прежде. Именно такой застала ее французская интеллигенция середины века, давшая экзистенциальному движению его окончательную форму.
IV
Французский экзистенциализм возник как реакция на консервативный стиль мышления Хайдеггера и Ясперса, а также на характерное для них забвение первоначальной напряженности экзистенциального философствования. Французы попытались возродить непримиримый дух Кьеркегора и Ницше. Они обогатили экзистенциальную традицию, включив в нее глубокое и мучительное творчество Паскаля, озарения сюрреалистов и двусмысленные интуиции Шестова и Бердяева.
Все внимание французских философов и литераторов экзистенциального направления – как его атеистического, так и христианского крыла – оказалось при этом направленным на одну проблему: как выявить абсурд в повседневности, как определить «пограничную ситуацию»? Этот вопрос действительно был оставлен и Хайдеггером, и Ясперсом в тени. Хайдеггер, по приведенным выше причинам, его вообще не ставил, а Ясперс отделался описаниями, скорее, психологического характера. Его проповедь была обращена к людям, уже потерпевшим крушение и желающим выжить в нем: он врачевал нанесенные Кьеркегором и Ницше раны. Французские авторы, напротив, обратились к аудитории, получившей устойчивое католическое или контовско-прогрессистское воспитание. Им надо было обосновать с непреложностью внутреннюю неизбежность абсурда в самой повседневности, внутри повседневного человеческого опыта. Это требование логически неопровержимо и общеобязательным образом привести к переживанию абсурда, привести к «пограничной ситуации» предопределило ведущий тип французского экзистенциального философствования. Способность сформулировать экзистенциальный парадокс так, чтобы он выстоял перед любой критикой, стремящейся низвести его в повседневность, стала для французских экзистенциалистов критерием профессионального успеха. Такой парадокс, который мог быть разрешен человеком с помощью каких-либо средств, предоставленных ему религией, природой или культурой (или вообще мог быть оставлен нерешимым), третировался как «проблема», стоящая «перед человеком». Только парадокс, решение которого признавалось необходимым, неизбежным, получил имя «вопроса», то есть парадокса, который стоит не «перед человеком», но «в который человек поставлен». Такой «вопрос» выводит за пределы всякого опыта, всякой повседневности и создает подлинно «пограничную ситуацию», то есть ситуацию подлинного абсурда.
Так бытие-к-смерти было оценено Ж.-П. Сартром как недостаточно «пограничное». Сартр указал, что Хайдеггер делает смерть слишком интимной, слишком привычной для человека и, следовательно, недостаточно пародоксальной, недостаточно «экзистенциальной». Здесь выявляется принципиальное различие между немецкой и французской школами. Немцы старались использовать экзистенциальные концепции для объяснения опыта повседневности и опыта разрыва с ней. Сартр – для того, чтобы разрушить всякое объяснение, сделать его невозможным. Для него «понять» – значит простить, а простить – значит лишить экзистенциальности. Немцы сделали профессию из того, чтобы все понять, французы – из того, чтобы понять как можно меньше. Во Франции поэтому возникло большое число писателей, взявших себе целью обнаружить экзистенциальный парадокс в самых различных сферах повседневной жизни. Родственные отношения, социальные движения, Церковь, школа, завод, литература, живопись, супружеская постель – все подверглось переоценке, и во всем обнаружились «пограничные ситуации». Материал этих исследований огромен и весьма ценен. Достаточно напомнить имена Камю, Симоны де Бовуар, Габриэля Марселя. Были и многие другие.
Мы не можем здесь входить в детали достигнутых успехов и поражений и ограничимся лишь краткой экспозицией основной дискуссии, по образцу которой строились, по существу, и все остальные, – спора между религиозным и атеистическим экзистенциалистами. Здесь стоит отметить, что апелляция к религии и к Божьему имени под влиянием Кьеркегора и Ницше радикально изменила свою природу. Ранее апелляция к Богу совершалась тогда, когда хотели придать особую важность и серьезность разбираемому делу. Государство, юстиция, армия, искусство – все они обращались к Богу, стремясь окончательно и безусловно утвердить свой авторитет. «Во имя Бога», «с нами Бог», «божественная природа музыки (живописи, литературы и т. д.)» так и мелькали в речах и манифестах. Историческое воплощение божественного Логоса сделало такую апелляцию излишней: Бог утратил свою роль высшего авторитета над всеми авторитетами, Он стал как бы имманентен им в этом новом типе пантеизма. Поэтому обращение к Богу после Гегеля могло стать возможным только в целях подрыва всех без исключения авторитетов. Оно и стало таковым у Кьеркегора и Ницше. Связь между верой и уверенностью оказалась радикально разорванной. Вера стала наивысшим обоснованием абсолютной неуверенности. Вместе с тем эта абсолютная неуверенность во всех земных авторитетах базировалась на некоторой абсолютной уверенности – уверенности в наличии высшего авторитета, то есть Бога, и в возможности божественного милосердия и спасения им вопреки всякой религиозной неуверенности мысли и чувства. Поэтому, с точки зрения Сартра, Камю и других французских экзистенциалистов атеистического направления, наличие такой абсолютной уверенности снимает ситуацию абсурда, лишая абсурд его подлинной напряженности, и ведет на деле к отказу от экзистенциальной проблематики. Их собственная концепция абсурда базировалась, напротив, на невозможности никакого высшего смысла (при настоятельной потребности в нем) и, следовательно, на абсолютной ответственности самого экзистирующего за свои действия (вследствие невозможности спасения милосердием). В противовес этому Габриэль Марсель, Эммануэль Мунье и другие экзистенциалисты религиозного направления указывали на то, что при атеистической трактовке бытие становится совершенно замкнутым, как бы исчислимым, не таящим никаких неожиданностей и, следовательно, недостаточно абсурдным. Лишь обращение к Богу и таящиеся в этом обращении возможности приводят, по их мнению, к подлинной напряженности абсурда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: