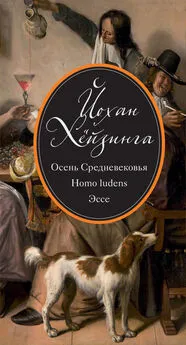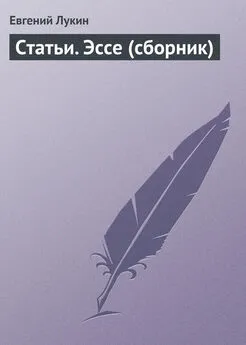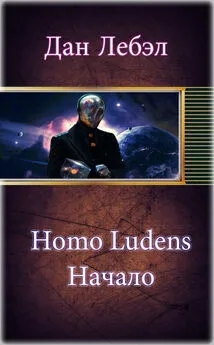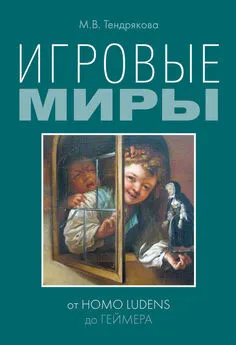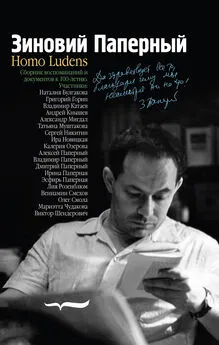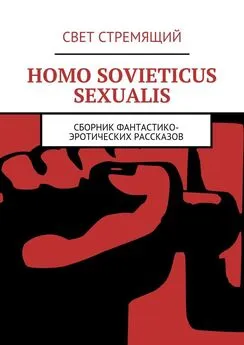Йохан Хёйзинга - Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник)
- Название:Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-389-13985-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохан Хёйзинга - Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник) краткое содержание
– поэтическое описание социокультурного феномена позднего Средневековья, яркая, насыщенная энциклопедия жизни, искусства, культуры Бургундии XIV–XV вв.
– фундаментальное исследование игрового характера культуры, провозглашающее универсальность феномена игры. В эссе
глубоко исследуются причины и следствия духовного обнищания европейской цивилизации в преддверии Второй мировой войны и дается прогноз о возрождении культуры в послевоенный период. Три статьи посвящены философским и методологическим вопросам истории и культурологии, теоретическим и нравственным подходам к культуре. Художественные дарования автора демонстрирует ироничная серия рисунков, посвященных «отечественной истории». Издание снабжено обширным научным справочным аппаратом.
Комментарии Д. Э. Харитоновича.
Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Времена, последовавшие за Реформацией, уже не знали смертных грехов гордыни, гневливости, корыстолюбия, доведенных до состояния того багрово-красного жара, того наглого бесстыдства, с которым они щеголяли в людях XV столетия. Это безудержное бургундское высокомерие! Вся история рода герцогов Бургундских: от первого доблестного рыцарского деяния, столь высоко вознесшего первого из Филиппов, жгучей ревности Иоанна Бесстрашного, черной жажды мщения после его смерти, а затем долгого лета еще одного Magnifico [Великолепного], Филиппа Доброго, и кончая безрассудным упрямством, сгубившим Карла Смелого вместе с его высокими помыслами 45*, – не есть ли это поистине поэма героического высокомерия? Из всех стран Запада в их землях жизнь била ключом наиболее щедро: и в самой Бургундии, полной силы и крепости, как ее вино, и в «la colérique Picardie» [«пылкой Пикардии»], и в ненасытной, богатой Фландрии. Именно здесь живопись, скульптура и музыка расцветают во всем великолепии – и здесь же господствует жестокая месть, а насилие и варварство дают себе волю и среди знати, и в бюргерстве 59.
Ни одно зло этого времени не поминается чаще корыстолюбия. Гордыню и корыстолюбие можно противопоставить друг другу как грехи прежнего – и нового времени. Гордыня, высокомерие – грех феодальной, иерархической эпохи, когда владения и богатства еще не обладают заметной подвижностью. Ощущение власти еще не основывается исключительно на богатстве; ей придается более личный характер, и, стремясь получить признание, власть должна выставлять себя напоказ: таковы впечатляющие торжественные выходы лиц, облеченных властью, в сопровождении многочисленной свиты приверженцев, в блеске пышных одежд и дорогих украшений. Представление о том, что одни стоят выше других, неизменно питается живыми формами феодального, иерархического сознания: коленопреклоненным почтением и покорностью, церемониальными знаками уважения и пышным великолепием знати; все это заставляет воспринимать возвышение одних над другими как нечто абсолютно естественное и вполне справедливое.
Грех гордыни носит символический и богословский характер, корни его глубоко сидят в почве всех представлений о жизни и о мире вообще. Superbia [Гордыня] была истоком и причиной всякого зла; возгордившись, Люцифер положил начало всяческой гибели. Так полагал блаженный Августин, так думали и впоследствии: гордыня – источник всех грехов, они вырастают из нее, как растение вырастает из семени 60.
Но в Писании помимо слов, подкрепляющих это мнение: «A superbia initium sumpsit omnis perditio» [«В Гордыне погибель». – Тов. 4, 13], имеются и другие: «Radix omnium malorum est cupiditas» [«Корень бо всех зол есть сребролюбие». – 1Тим. 6, 10]. Так что корень всех зол могли видеть и в алчности. Ибо под cupiditas , которая в ряду смертных грехов прямо не фигурировала, понималась здесь скупость – согласно иному толкованию этого текста 61. И похоже, что преимущественно начиная с XIII в. укрепляется убеждение в том, что именно необузданная алчность ведет к гибели мира, вытесняя из умов современников представление о гордыне как о первейшем и пагубнейшем из пороков. Прежнее богословское подчеркивание Гордыни заглушается постоянно увеличивающимся хором голосов тех, кто всевозможные бедствия этого времени выводит из бесстыдно возрастающей алчности – как ни проклинал ее Данте: «La cieca cupidigia!» 62[«Слепая алчность!»]
Алчность не имеет символического и богословского характера, который присущ гордыне; это грех природный, материальный, чисто земная страсть. Алчность – порок того периода, когда денежное обращение перемещает, высвобождает предпосылки обретения власти. Человеческое достоинство оценивается теперь путем простого расчета. Открываются доселе невиданные возможности накопления сокровищ и удовлетворения неукротимых желаний. Причем сокровища эти пока еще не обрели той призрачной неосязаемости, которую придало капиталу современное развитие кредитной системы: это все еще то самое желтое золото, которое прежде всего и приходит на ум. Обращение с богатством еще не превратилось в автоматический или механический процесс из-за долгосрочных капиталовложений: удовлетворения ищут в неистовых крайностях скупости – и расточительства. В расточительстве алчность вступает в союз с прежней гордыней. Последняя все еще крепка и живуча: идея феодальной иерархии все еще не потускнела, накал страсти к роскоши и великолепию, нарядам и украшениям все еще пурпурно-ярок.
Именно сочетание с примитивной гордостью придает алчности в период позднего Средневековья нечто непосредственное, пылкое и неистовое, что в более поздние времена, по-видимому, безвозвратно утрачивается. Протестантство и Ренессанс наполнили корыстолюбие этическим содержанием, узаконив его как необходимое условие благоденствия. Клеймо на нем бледнело по мере того, как отказ от земных благ признавали все менее похвальным и убедительным. Но позднее Средневековье между порочной алчностью – и щедростью или добровольной бедностью было в состоянии видеть лишь неразрешимое противоречие.
В литературе этого времени, в хрониках, от поговорок до благочестивых трактатов – повсюду мы обнаруживаем жгучую ненависть к богачам, жалобы на алчность великих мира сего. Иной раз это выглядит как смутное предвестие классовой борьбы, выраженное в форме нравственного возмущения. Здесь документы как источники сведений о реальных событиях вполне могут дать нам почувствовать жизнь этой эпохи: все отчеты о судебных процессах пестрят примерами бесстыднейшей алчности.
В 1436 г. оказалось возможным на 22 дня приостановить службу в одной из наиболее посещавшихся парижских церквей из-за того, что епископ отказывался вновь освятить ее, пока не получит некоторой суммы денег от двух нищих, осквернивших храм тем, что подрались в нем до крови. Они же суммы таковой не имели. Епископ этот, Жак дю Шателье, известен был как «ung homme très pompeux, convoicteux, plus mondain que son estat ne requeroit» [«человек весьма чванливый, алчный и куда более мирской, нежели его сан того требовал»]. И не далее как в 1441 г., при преемнике его Дени дё Мулене, случилось подобное же происшествие. На сей раз самое известное и наиболее популярное в Париже кладбище des Innocents [Невинноубиенных младенцев] было закрыто для похорон и процессий в течение четырех месяцев, поскольку епископ потребовал за это пошлину куда большую, чем прихожане кладбищенской церкви были в состоянии ему выплатить. Епископ этот был «homme très pou piteux à quelque personne, s’il ne recevoit argent ou aucun don qui le vaulsist, et pour vray on disoit qu’il avait plus de cinquante procès en Parlement, car de lui n’avoit on rien sans procès» 63[«человек мало к кому жалостливый, доколе за то мзды не получит, либо иного чего; и воистину говорили о нем, вели-де против него в парламенте десятков пять жалоб или более, ведая, что добиться от него чего-либо без суда было никак невозможно»]. Стоит лишь проследить шаг за шагом карьеру кого-либо из нуворишей этого времени – взять хотя бы историю семьи д’Оржемон, со всей ее низменной скаредностью и сутяжничеством, – чтобы понять ненависть народа, гнев проповедников и поэтов, беспрестанно изливавшийся на богатых 64.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: