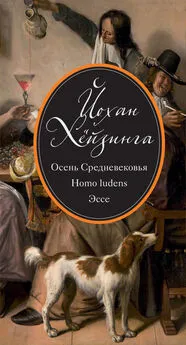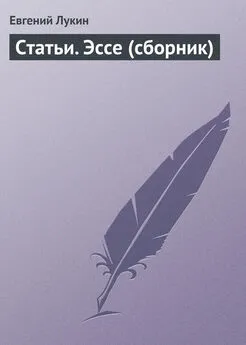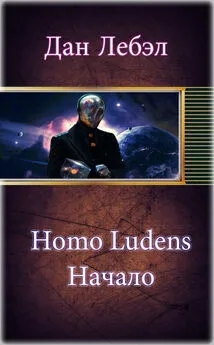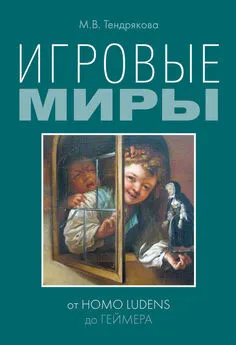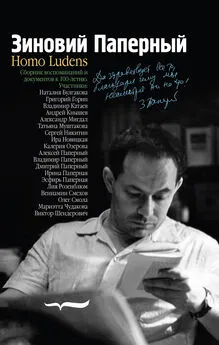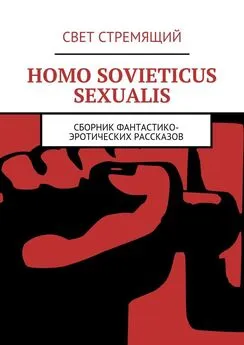Йохан Хёйзинга - Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник)
- Название:Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-389-13985-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохан Хёйзинга - Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник) краткое содержание
– поэтическое описание социокультурного феномена позднего Средневековья, яркая, насыщенная энциклопедия жизни, искусства, культуры Бургундии XIV–XV вв.
– фундаментальное исследование игрового характера культуры, провозглашающее универсальность феномена игры. В эссе
глубоко исследуются причины и следствия духовного обнищания европейской цивилизации в преддверии Второй мировой войны и дается прогноз о возрождении культуры в послевоенный период. Три статьи посвящены философским и методологическим вопросам истории и культурологии, теоретическим и нравственным подходам к культуре. Художественные дарования автора демонстрирует ироничная серия рисунков, посвященных «отечественной истории». Издание снабжено обширным научным справочным аппаратом.
Комментарии Д. Э. Харитоновича.
Осень Средневековья. Homo ludens. Эссе (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В своей повседневной жизни человек Средневековья мыслил в тех же формах, что и в своей теологии. Основой и здесь и там являлся тот архитектурный идеализм, который схоластика именовала реализмом: потребность обособлять каждую идею, оформляя ее как сущность, и, объединяя одни идеи с другими в иерархические сочетания, постоянно выстраивать из них соборы и храмы, подобно тому как это делают дети при игре в кубики.
Все устоявшееся, завоевавшее в жизни прочное место, все, что обрело определенную форму, считается уже установленным: распространенные обычаи и нравы, так же как высокие предметы, относящиеся к божественному замыслу мироустройства. Со всей ясностью это раскрывается, например, во взглядах на нормы придворного этикета у Оливье дё ля Марша и Алиеноры дё Пуатье, описывавших придворные нравы. Почтенная старая дама воспринимает их как мудрые законы, введенные при королевских дворах еще в глубокой древности по тщательно обдуманному решению, дабы они почитались и в будущем. Она говорит о них как о вековой мудрости: «et alors j’ouy dire aux anciens qui sçavoient…» [«и к тому же слыхала я суждение древних, кои ведали…»]. Она видит в своем времени черты вырождения: уже добрый десяток лет во Фландрии некоторые дамы, коим предстоит разрешиться от бремени, устраивают свое ложе перед огнем, «de quoy l’on s’est bien mocqué» [«над чем весьма потешались»]; прежде этого никогда не делали – и к чему это только приведет? – «mais un chacun fait à cette heure à sa guise: par quoy est à doubter que tout ira mal» 1[«ныне же всяк поступает как хочет, из-за чего следует опасаться, что дела пойдут совсем худо»].
Ля Марш ставит перед собой – и перед читателем – солидные вопросы относительно важности всяческих церемоний: почему «fruitier» [фрухтмейстер] наряду со своими обязанностями ответствен еще и за освещение, «le mestier de la cire» [«службу по восковой части»]? Ответ гласит: потому как воск добывается пчелами из цветов, из коих также созревают и фрукты, «pourquoy on a ordonné très bien ceste chose» 2[«так что устроено все это весьма хорошо»]. Свойственная Средневековью определенная склонность создавать для каждой функции свой собственный орган есть не что иное, как результат направления мыслей, приписывавшего самостоятельность всякому отдельному качеству, которое рассматривали как идею. Король Англии среди своих «magna sergenteria» 1*имел особого слугу, который должен был поддерживать голову короля, если тот, пересекая пролив, отделяющий страну от континента, ощутит приближающиеся приступы морской болезни; должность эту занимал в 1442 г. некий Джон Бейкер, после которого ее унаследовали две его дочери 3.
Под этим же углом зрения следует рассматривать обычай всему давать имена, в том числе и вещам неодушевленным. Такая – пусть уже стершаяся – черта примитивного антропоморфизма проявляется в до сих пор сохранившемся в военном деле обычае давать собственные имена пушкам, что во многих отношениях означает возврат к примитивному жизневосприятию. В Средние века эта тенденция выражена гораздо сильнее; подобно мечам в рыцарских романах, бомбарды в войнах XIV–XV столетий зовутся: Le Chien d’Orléans, la Gringade, la Bourgeoise, de Dulle Griete [ Орлеанский пес, Кляча, Хозяйка, Безумная Грета ]. До сих пор, как отголосок былого, собственные имена получают некоторые выдающиеся алмазы. Среди драгоценных камней Карла Смелого многие были известны по именам: le sancy 2*, les trois frères, la hоte, la balle de Flandres 4[ сансú, три брата, корзина, шарик из Фландрии ]. Если и в наше время сохраняется обычай, согласно которому имена получают суда, изредка дома, а колокола уже никогда, то это происходит не только потому, что судно, перемещающееся с места на место, всегда легко может быть опознано по названию, но также и потому, что корабль, пожалуй, вызывает к себе отношение в чем-то более личное, даже по сравнению с домом, – как это отмечает английский язык, где о судне говорят she [ она ] 5. Личное отношение к неодушевленным предметам во времена Средневековья было выражено гораздо более ярко; все наделялось именем: камеры в темнице так же, как дом или колокол.
Во всякой вещи искали мораль , как тогда говорили, иными словами – урок, который там заключался, нравственное значение как самое существенное из всего, что там было. Всякий исторический или литературный эпизод обнаруживал тяготение к кристаллизации в притчу, нравственный образец, пример или довод; всяческое высказывание превращалось в текст, в сентенцию, в изречение. Подобно священным символическим связям между Ветхим и Новым Заветами, возникают нравственные соответствия, благодаря которым всякое жизненное происшествие может сразу же найти свое зеркальное отражение в примерах: в типических случаях из Священного Писания , истории или литературы. Чтобы кого-либо подвигнуть к прощению, перечисляют соответствующие примеры из Библии . Чтобы предостеречь от вступления в брак, вспоминают все несчастливые супружества, которые упоминаются древними. Иоанн Бесстрашный, в оправдание убийства герцога Орлеанского, уподобляет себя Иоаву, а свою жертву Авессалому; при этом он ставит себя выше Иоава, поскольку со стороны короля не было явного запрещения нанести смертельный удар 3*. «Ainssy avoit le bon duc Jehan attrait ce fait à moralité» 6[«Так добрый герцог Иоанн обратил сие происшествие в нравоучение»]. – Это как бы расширенное и наивное применение правового понятия, которое в современной юридической практике уже превращается в пережиток устаревшей формы мышления 4*.
Во всяком серьезном доказательстве охотно прибегают к ссылкам на тексты в качестве опоры и исходного пункта: каждое из двенадцати предложений «за» или «против» отказа в повиновении авиньонскому Папе, которыми в 1406 г. церковный собор в Париже внес свой вклад в продолжение Схизмы 5*, основывалось на Священном Писании 7. Ораторы-миряне, так же как и клирики, выискивают свои тексты из одних и тех же источников 8.
Никакой пример не обрисовывает все эти вышеупомянутые черты более ясно, чем пресловутая защитительная речь, с помощью которой мэтр Жан Пти пытается доказать невиновность герцога Бургундского в убийстве Людовика Орлеанского.
Прошло уже более трех месяцев с того вечера, как наемные убийцы, которых Иоанн Бесстрашный заранее укрыл в одном из домов на Rue vieille de Temple [Старой соборной улице], прикончили родного брата короля. Сперва Иоанн, во время похорон, выказывал глубокую скорбь; впоследствии же, когда он увидел, что расследование подбирается к принадлежавшей ему резиденции hôtel d’Artois 6*, где он прятал наемных убийц, Иоанн, находясь в королевском совете, отвел в сторону своего дядю, герцога Беррийского, и признался ему, что это он сам, вняв наущению дьявола, подстроил убийство. После этого он бежал из Парижа во Фландрию. В Генте он впервые открыто попытался найти оправдание своему злодеянию и затем вновь вернулся в Париж, полагаясь на всеобщую ненависть к Орлеанскому дому и на собственную популярность среди народа Парижа, который действительно, даже теперь, с радостью его приветствовал. В Амьене герцог обратился за советом к двум лицам, которые привлекли к себе внимание выступлениями на поместном церковном соборе в Париже в 1406 г. Это были мэтр Жан Пти и Пьер-о-Бёф. Им было поручено довести до конца гентскую защитительную речь Симона дё Со, с тем чтобы, прозвучав в Париже, она произвела убедительное впечатление на принцев и их окружение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: