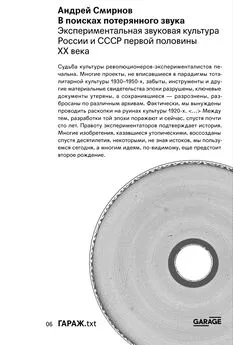Геогрий Чернявский - Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века
- Название:Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-227-03424-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геогрий Чернявский - Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века краткое содержание
Через века и страны. Б.И. Николаевский. Судьба меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России первой половины XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это был первый опыт санкционированного правительством изгнания из Советской России чуждых большевикам элементов. За этой акцией последуют знаменитый «философский пароход» и новые группы изгнанников, перед которыми стояла все та же непростая альтернатива – отправиться в эмиграцию или же оказаться в тюрьме, лагере или ссылке. В последующие годы, однако, возможность выехать за границу стала редким исключением. Ручей эмиграции все более ссужался и иссякал. Затем эмиграция и вовсе исчезла, став «преступлением перед социалистической родиной». Несогласных ожидала «высшая мера» или отправка в ГУЛАГ, причем для многих из тех, кто попал в концлагерь, это означало ту же гибель, только в рассрочку.
Николаевский избежал наихудшей участи, хотя поначалу изгнание из родной страны, которое он предпочел тюрьме и ссылке, оставленные в Советской России заложниками многочисленные родные и близкие, в том числе мать Николаевского, – все это воспринималось им как тяжкая трагедия. Вряд ли в то время он надеялся, что большевистский режим рухнет в относительно близком будущем. Будучи уже опытным и трезвым политиком, Николаевский понимал, что советская власть все более укрепляется, что экономические уступки НЭПа не дополнятся «НЭПом политическим», что диктатура над пролетариатом и остальными слоями населения становится все более жестокой и беспощадной. Так началась эмиграция Бориса Ивановича Николаевского, продлившаяся четыре с половиной десятилетия.
Глава 3
ГЕРМАНИЯ 1922–1933 гг.
Переезд в Берлин
Если не считать так и не вернувшегося в Советскую Россию Аксельрода, из меньшевиков за границей первыми оказались Ю.О. Мартов, P.A. Абрамович и E.Л. Бройдо. Затем удалось выехать Д.Ю. Далину. 11 января 1922 г. из Бутырской тюрьмы были выпущены и уехали за рубеж Ф.И. Дан, Л.O. Дан, Г.Я. Аронсон, В.М. Шварц, Ф.А. Юдин и некоторые другие меньшевистские лидеры (нелепость бюрократической процедуры заключалась в том, что освобождены они были под подписку о невыезде). В последней группе находился Николаевский. Отправились высланные в Берлин, где была сформирована Заграничная делегация меньшевиков и начат выпуск журнала «Социалистический вестник».
Высылаемым на сборы милостиво была дана неделя, использованная для проведения последнего расширенного пленума ЦК РСДРП. Одним из важнейших вопросов, обсуждаемых на пленуме, стала, разумеется, эмиграция руководителей партии: следовало ли меньшевистским лидерам согласиться с предоставленным правом на выезд, не будет ли отъезд за рубеж капитуляцией перед советской властью или, хуже того, ренегатством. В конце концов пленум дал разрешение выехать всем желающим, хотя в прениях неоднократно высказывалось недовольство этим «бегством» за границу. Как вспоминал С. Волин, «сами уезжавшие смотрели на дело иначе. Все они прошли через длительное тюремное заключение, нередко и голодовку, а некоторым из них виза на выезд была дана взамен ссылки». Здесь автор был неточен. Виза на выезд взамен ссылки была предложена не некоторым, а всем эмигрировавшим меньшевикам. Волин, однако, указывал, что «своему отъезду они не придавали большого значения в убеждении, что их эмиграция не может быть длительной – год-два, не больше» [237].
Думается, что дело здесь обстояло не совсем так. Меньшевистские лидеры вынуждены были с глубокой тоской констатировать, что большевистской диктатуре в условиях НЭПа и окончания международного бойкота советской власти в ближайшие годы не грозит крах, что Ленин и его команда стали у власти всерьез и надолго. Социал-демократические руководители, естественно, стремились предохранить себя от новых, еще более суровых репрессий и в то же время полагали, что воздействие меньшевиков на международные социалистические круги будет значительно эффектнее самоубийственных демонстративных протестов внутри РСФСР и эффективнее бесплодных попыток играть роль внутренней оппозиции в Советской России.
Нечего греха таить, у Николаевского, по всей видимости, была еще одна надежда – продолжить в Европе свои изыскания по истории российского революционного движения. Было понятно, что в России этим можно заниматься, только пойдя на недопустимый для Николаевского компромисс с властью и со своей совестью. Правда, на какое-то сотрудничество с теми, кто оставался в Москве, Николаевский и надеялся, и готов был пойти, причем его мотивы были житейские. Об этом свидетельствовало письмо, отправленное 19 января 1922 г., в день отъезда, Щеголеву. Николаевский писал:
«В Германии я буду, конечно, нуждаться в заработке. Нельзя ли чего-нибудь через Музей революции? Я мог бы великолепно наладить собирание заграничных изданий – новых и старых, мог бы поставить дело обыска эмигрантских архивов и пр. Связей для этого у меня будет достаточно. Но, конечно, нужны деньги. Может ли и захочет ли музей что-нибудь сделать? Затем я продолжу и в Берлине считать себя Вашим сотрудником. Думаю, что обзоры белой литературы будут для вас не лишними» [238].
Конечно, идея составлять обзоры «белой литературы» для советской власти выглядела как предложение о сотрудничестве, даже несколько выходящем за пределы историко-архивной работы. Было понятно, что белоэмигрантская пресса – в целом антисоветская. И сводками Николаевского о том, что пишут белые эмигранты о советской власти, как именно не любят и критикуют ее, в России мог воспользоваться далеко не один Щеголев и Музей революции, а, например, еще и столь не любимые Николаевским карательные органы. Не понимать этого Николаевский не мог.
Из членов ЦК не воспользовался предоставленным правом эмигрировать только непримиримый Федор Андреевич Череванин (Липкин), называвший Ленина «апостолом анархии». Его ожидала страшная судьба. С января 1922 г. он неоднократно подвергался арестам и ссылкам (Рязань, Калуга). В 1930 г. оказался в тюрьме и стал одним из главных подсудимых на судебном процессе по делу Союзного бюро РСДРП (меньшевиков). В апреле 1931 г. коллегией ОГПУ был приговорен к пяти годам заключения, в мае 1935 г. сослан на три года в Акмолинск, а в марте 1938 г. по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был расстрелян.
Промежуточным пунктом эмигрировавших из России меньшевистских лидеров стала Рига, где они недолгое время ожидали получения германских виз на въезд и пока что выступали на различных русских собраниях. Из Риги Николаевский 4 февраля 1922 г. написал письмо Аксельроду. Прагматический момент проскальзывал и в этом письме. Левый (или левоцентристский) меньшевик Николаевский однозначно напрашивался на приглашение правого меньшевика Аксельрода встретиться и, видимо, рассчитывал на предложение о какой-то работе в качестве помощника Аксельрода. «Вы меня, конечно, не помните, – мы встречались в Петрограде в 1917 г., но не часто и в течение слишком короткого промежутка времени. Тем не менее теперь, выбравшись из России, я не могу, да по правде и не хочу, удерживать себя от желания написать Вам. Вы стали для нас чем-то большим и более близким, чем кто-либо другой из вождей – теоретиков партии, так как каждый из нас считает себя как бы лично знакомым с Вами», – с заметным заискиванием писал Николаевский, прекрасно зная, что далеко не все меньшевики разделяли высказываемую в письме Николаевским позицию по отношению к консервативному Аксельроду. Выражая радость по поводу того, что Аксельрод, как ему стало известно, пишет мемуары, Николаевский откровенно предлагал себя в ассистенты: «Не могу утерпеть, чтобы не высказать Вам свою радость по поводу того, что, как я узнал, Вы пишете свои воспоминания. История революционного движения – мое больное место. Над ней я сейчас много работаю и с нетерпением жду, когда смогу прочесть Вашу работу» [239].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

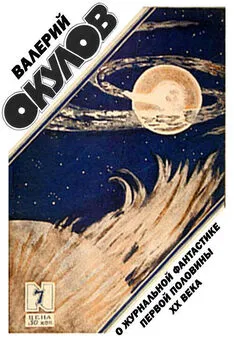

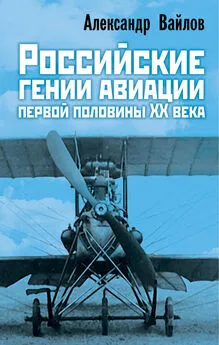
![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины ХХ века. Том 3]](/books/1086208/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus.webp)
![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины XX века. Том 1]](/books/1086410/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus.webp)