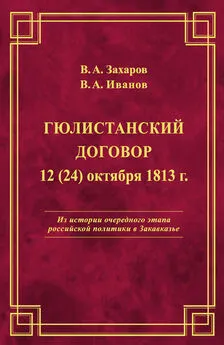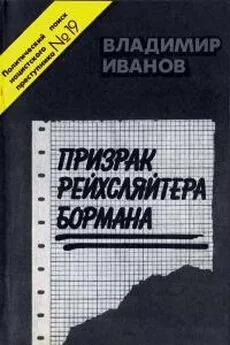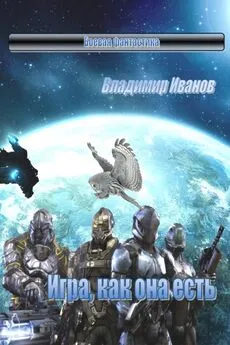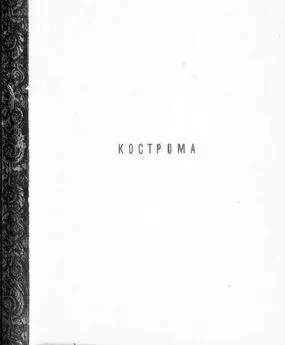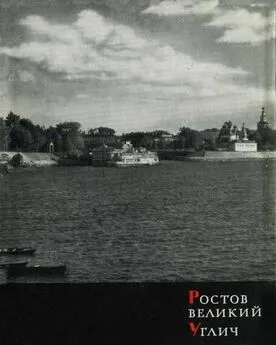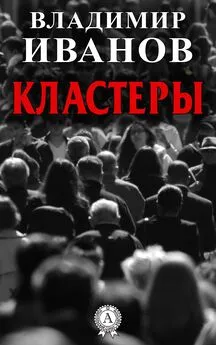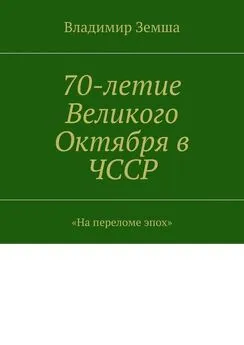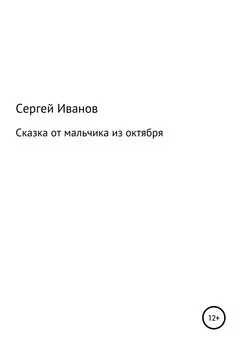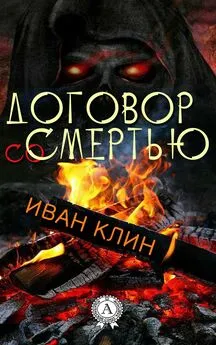Владимир Иванов - Гюлистанский договор 12 (24) октября 1813 г
- Название:Гюлистанский договор 12 (24) октября 1813 г
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Пробел-2000»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98604-459-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Иванов - Гюлистанский договор 12 (24) октября 1813 г краткое содержание
Однако, несмотря на свою «промежуточность» (ибо окончательными явились положения заключенного 10 (22) февраля 1828 г. Туркманчайского русско-персидского договора) этот трактат, положивший конец длительному русско-персидскому противостоянию 1804–1813 гг., и перемежавшийся с участием России в данный период в III (1805 г.), IV (1806–1807 гг.), VI (1812–1814 гг.) антифранцузских коалициях, русско-турецкой (1806–1812 гг.), русско-шведской (1808–1809 гг.), русско-английской (1807–1812 гг.) войнах, а также с Отечественной войной (1812 г.), Заграничными походами русской армии (1813–1814 гг.), является важным событием, ибо заложил определенный фундамент для дальнейшего укрепления российских позиций в регионе.
Гюлистанский договор 12 (24) октября 1813 г - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гибель такого решительного и энергичного предводителя как П. Цицианов, явилась большим ударом в первую очередь для расположенного под стенами Баку русского отряда. Как отмечает Н. Дубровин «Происшествие под Баку, так печально окончившееся изменническим убийством князя Цицианова, поставило отряд, блокировавший эту крепость, в самое невыгодное положение… С тех самых стен, на которых должен был развеваться русский флаг, открыт был по нашим войскам сильный огонь, заставивший их отступить и расположиться неподалеку от города. Генерал-майор Завалишин, как старший, принял начальство; положение его, как начальника, было далеко незавидное. Простояв более месяца под крепостью и продовольствуясь половинною дачею, отряд был без лошадей, переполнен больными, стоял в снегу, без хлеба, без дров, без одежды и амуниции. По неимению достаточного количества лазаретных вещей, больные лежали на земле под покрышкою одних шинелей, в большинстве изодранных; у многих солдат не было белья. Жестокие вьюги, начавшиеся с 4-го февраля и продолжавшиеся попеременно то с дождем, то со снегом и морозами, развили болезни; много было обмороженных. В отряде было здоровых не более тысячи человек, из которых только треть в состоянии была владеть оружием; остальные были до такой степени слабы, что не могли быть употреблены в службу. Вода, годная для приготовления пищи, была под выстрелами крепости, так что войска принуждены были добывать ее из снега и в таком вижде употреблять в пищу и питье… Постоянный холод и метели все более и более изнуряли солдат, утомленных походом из Грузии, походом, при котором они должны были везти на себе большую часть тяжестей. Теперь все чины отряда были поставлены еще в худшее положение и принуждены драться за каждое полено, посылать отдельные отряды в соседние селения за дровами и нефтью» [63] Дубровин К Указ. соч. T. V. 1887, С. 1–2.
. В результате, отряд отступил на Кизляр, где и был распущен [64] Там же. С. 3.
.
Гораздо более серьезными могли оказаться последствия гибели Цицианова в политическом смысле. Как отмечает М. Игамбердыев «После убийства ген. Цицианова все ханы по традиции считали себя свободными от взятых обязательств. Россия теперь не могла с таким успехом продолжать начатое наступление. Внешнеполитическая обстановка начала осложняться. Баба-хан, по указке английских офицеров, укреплял свои северные границы и в связи с этим придавал важное значение Бакинскому, Эриванскому, Талышинскому и Нахичеванскому ханствам» [65] Игамбердыев М. Указ. соч. С. 69.
. В этих условиях нельзя было надеяться на большую лояльность владетелей сравнительно недавно вошедших в подданство России территорий. Н.Дубровин, также обращаясь к состоянию умов значительной части мусульманских владетелей, вскоре после гибели Цицианова замечает, что «Все покорившиеся нам ханы больших и малых владений, собственно говоря, не признавали над собою власти русского правительства и не понимали этого слова. Они покорились русскому иншпектору князю Цицианову, как называли они князя Павла Дмитриевича. Перед ним они ползали, унижались, льстили и его одного боялись. Неизменное слово его было для всех законом, и сам князь Цицианов в глазах тех же ханов был именно то, что они называли Россией.
Такой узкий взгляд был причиною изменнического поступка бакинского хана, человека, по тамошнего, умного и близко знакомого князю Цицианову. Если бы Хуссейн-хан сознавал, что со смертию иншпектора он не избавится от покорности России и что явится другой точно такой же главнокомандующий, то, конечно, не решился бы на столь коварный поступок. Хуссейн посягнул на жизнь князя Цицианова в полном убеждении, что с его смертью прекратится и всякая зависимость хана от России. Точно таких же убеждений были все прочие ханы, и вот причина, почему происшествие под Баку с быстротою молнии разнеслось по всему Закавказью и во многих местах было ознаменовано торжественным празднеством» [66] Дубровин Н. Указ. соч. T. V. С. 5.
.
Убийство Цицианова привело к активизации также ахалцихского паши, покровительствовавшего лезгинским набегам. Концентрация вооруженных групп и большие приготовления были замечены и на персидских границах. Воодушевленный гибелью Цицианова эриванский хан готовился вернуть себе утраченный в конце 1804 г. Шурагель. Уже в апреле его отряды выступили к Шурагелю. Имеретинский царь Соломон также отказался доставлять провиант и требовал вывода русского отряда из Кутаиси. Начались волнения среди хевсуров. Пользуясь поддержкой Сурхай-хана Казикумухского активизировали свою деятельность джаро-белоканские лезгины. На верность ханов (таких, как, например, Селим-хан Шекинекий или Ибрагим-хан II Тут и некий), также ни в коей мере рассчитывать было нельзя.
На эффективность действий русских войск негативно могла сказать и обстановка отсутствия фактического единоначалия, сложившаяся вскоре после смерти Цицианова. При этих условиях, вопрос удержания громадной территории, которая «начиная от берегов Черного моря и до Баку, имело около 700 верст длины, а от Дарьяла до Карабагских пределов до 350 верст поперечника» [67] Там же. С. 16.
, представлялся крайне трудным. Все это требовало принятия неотложных мер.
Глава II
Русско-персидская война при главнокомандовании Гудовича, Паулуччи и Тормасова
2 июня 1806 г. Высочайшим указом граф Иван Васильевич Гудович был назначен главнокомандующим на Кавказской линии и в Грузии [68] Там же. С. 16.
. Характеризуя его В. Потто отмечал «Новым главнокомандующим на место князя Цицианова назначен был граф Иван Васильевич Гудович, заслуженный ветеран, хорошо известный Кавказской линии, которой он уже командовал два раза – в царствование Екатерины и Павла. Но преклонные годы и время, проведенное в бездействии, в стороне от военного дела, невыгодно отразились на деятельности и характере нового главнокомандующего. Сохранив свою прежнюю энергию, он, по словам современников, стал вместе с тем раздражителен, капризен, а память об одержанных им некогда победах развила в нем тщеславие и самонадеянность. В закавказской деятельности своего предместника, князя Цицианова, он видел только одни теневые стороны и намеревался продолжать не только его дела, но и исправить в них все на его взгляд ошибочное и неполное. Вообще, уезжая на свой пост, он обещал государю гораздо более, чем в состоянии был исполнить. Но уже в Георгиевске его постигло первое разочарование. Он нашел Кавказ далеко не в том состоянии, в каком оставил его в конце прошедшего столетия, когда русское владычество здесь ограничивалось одной Кавказской линией. К тому же в крае свирепствовала чума, уносившая тысячи жертв, а средств для борьбы со страшным врагом не было, так как большая часть войск находилась тогда под Дербентом с генералом Глазенапом. Из Грузии доходили также далеко не отрадные известия. Все Закавказье, которое умела удержать в повиновении твердая рука Цицианова, готово было восстать. Имеретинский царь Соломон бунтовал открыто, волновались осетины, ахалцихский паша покровительствовал опять начавшимся набегам лезгин на Грузию, а Персия собирала значительные силы, думая воспользоваться благоприятным временем для возвращения Ганжи, Карабага и других провинций. Ко всему этому, закубанские народы и кабардинцы, пользуясь отсутствием войск на Линии, производили дерзкие набеги, простиравшиеся даже за Ставрополь. Напрасно Гудович, думавший, что имя его, со времен анапского штурма, еще памятно горцам и служит по-прежнему грозой Кавказа, писал прокламации и собирал к себе депутатов. «Будучи старшим генералом русской армии, – сказал он, – я недаром прислан сюда водворить между вами порядок». Депутаты, по стародавнему обыкновению, брошенному Цициановым, получая подарки, обещали жить мирно и спокойно, а возвращаясь домой, принимались опять за прежние разбойничьи набеги» [69] т Потто В. Указ. соч. С. 402–403.
.
Интервал:
Закладка: