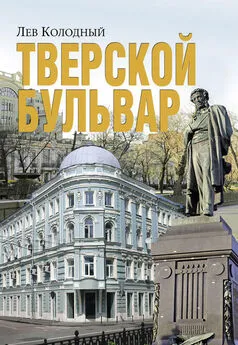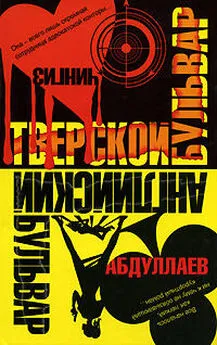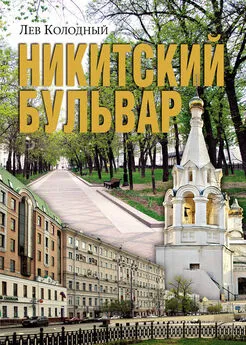Лев Колодный - Тверской бульвар
- Название:Тверской бульвар
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Вече»
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-9533-6697-7, 978-5-4444-8083-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Колодный - Тверской бульвар краткое содержание
Никуда не выезжая из Москвы, Лев Колодный два года ходил по маршруту длиной всего 872 метра, но здесь на каждом шагу встречал дома, связанные с именами великих писателей, архитекторов, артистов, замечательных жителей Тверского бульвара. Вечером на нем загораются фонари у подъездов МХАТа имени Горького и драматического театра имени Пушкина, бывшего легендарного Камерного театра Таирова, где играла гениальная актриса Алиса Коонен.
О том, что автор увидел и узнал во время увлекательного путешествия, вы прочтете на страницах авторского путеводителя. С ним в руках все, кто любит Москву, могут пройти дорогами писателя, узнав о многих незабываемых людях и событиях.
Тверской бульвар - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Архитектуру Московской Руси Средних веков дополнила двухъярусная колокольня нового времени, построенная по европейским канонам, в классическом стиле. Она несла семь колоколов, один из которых отлил мастер Иван Маторин, тот самый, кто с братом Михаилом отлил Царь-колокол.
Колокольню воздвигли в 1740 году, когда умерла императрица Анна Иоанновна. Ее отца, Ивана, царствовавшего с Петром при правительнице сестре Софье, назвали именем, которое носил Иоанн Креститель и Иоанн Богослов, почитаемый христианами как апостол, один из двенадцати учеников Христа, и как один из четырех его биографов, написавший Евангелие от Иоанна. Имя это происходит от еврейского имени «Иоханан», что значит «Яхве милостив», Бог милостив. Таким именем иудейский рыбак Зеведей, что значит «дар мой», нарек одного из сыновей. Ученик Иоанна Крестителя, он, как гласит предание, слышал, как тот при явлении Христа сказал: «Вот Агнец божий». Уверовал в него и пошел за ним, стал «учеником, которого любил Христос». На Тайной вечере «припадал к груди Христа». Единственный, кто проявил твердость духа, когда другие апостолы растерялись после ареста. Единственный из них стоял на Голгофе у креста, и умирающий Христос завещал ему заботу о матери – Деве Марии. Иоанна подвергали гонениям, бичевали, сослали на полупустынный остров Патмос. Там ему пришло видение о будущем мира и церкви, что побудило написать вдохновенное поэтическое «Откровение», по-гречески – «Апокалипсис». Оно завершает Новый Завет, где в последних главах после второго пришествия воспевается сияющий, не знающий ночи Иерусалим. «И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только которые написанные у Агнца в книге жизни».
Вокруг Иоанна Богослова, как пишет Владимир Гиляровский в «Москве и москвичах», на не мощенных камнем улицах в деревянных строениях с мелкими квартирами снимали жилье студенты-разночинцы. Жили в нужде. Вместо чая и кофе заваривали цикорий, четверть фунта, сто грамм, за три копейки, хватало дней на десять на четверых. В каждой комнате обитало четверо, на всех, бывало, приходилось две пары сапог и две пары платьев. На лекции ходили поочередно, двое шли в университет, двое сидели дома. «Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг».
(Ничем не лучше выглядели комнаты огромного, в четырех замкнутых корпусах студенческого общежития Московского университета у Яузы на Стромынке в 1951–1956 годах, когда я там жил. С той разницей, что убогих кроватей насчитывалось в два раза больше. Мебель состояла из прикроватных тумбочек, шкафа, стола и стульев. Украшали стены в рамках под стеклом отпечатанные портреты, по одному на комнату – вождей, членов Политбюро. На моих глазах комендант общежития обходил комнаты и снимал со стен портреты Берии, когда стало известно о его падении.)
При либеральном Александре II на Бронных улицах и переулках было некое подобие парижского Латинского квартала. Студенты всем своим видом и манерой поведения отличались от обывателей, ходили длинноволосые, в шляпах с широкими полями, щеголяли в пледах и очках. Подвыпив, распевали:
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются,
А Иван Богослов,
На них глядя без слов,
С колокольни своей улыбается.
Как утверждает Гиляровский: «Здесь в конце шестидесятых годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы, а еще раньше собирались каракозовцы, члены кружка “Ад”». Студентом Московского университет был Дмитрий Каракозов, вольнослушателем – его двоюродный брат Николай Ишутин. Студент Сергей Нечаев занимался в Петровской сельскохозяйственной академии. Каракозов стрелял в царя и был повешен. Его брату, организатору «Ада», казнь заменили бессрочной каторгой. Сергей Нечаев создал «Народную расправу». За убийство студента Ивана Иванова, заподозренного им в предательстве, Нечаева приговорили к 20 годам каторги. Все они помышляли о революции и справедливом строе, социализме. Другие студенты неоднократно покушались на Александра II и убили царя, готового подписать Конституцию, спустя пятнадцать лет после выстрела Каракозова.

Студент. Художник Н.А. Ярошенко
По Тверскому бульвару в Татьянин день студенты и профессора Московского университета шли к Трубной площади, роскошному ресторану «Эрмитаж». Там раз в год за простыми столами, уставленными бутылками водки, пива, дешевого вина и закусками, устраивали, по описанию Гиляровского, шумный и развеселый «народный праздник в буржуазном дворце обжорства».
В храме Иоанна Богослова кроме иконы, подаренной Михаилом Романовым, особо почитали чудотворную икону «Умиление» Божьей Матери и Смоленскую Богоматерь ХVII века в роскошном окладе. Его содрали, когда пришли на пятом году окрепшей советской власти большевики и под предлогом помощи голодающим конфисковали все церковное золото, серебро, драгоценные камни, украшавшие иконы.
Ограбление Иоанна Богослова происходило на глазах живших на Тверском бульваре Осипа Мандельштама и его жены. Надежда Яковлевна во «Второй книге», изданной в Париже, вспоминала: «Где-то в Богословском переулке – недалеко от нашего дома – стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идет “изъятие”. Происходило оно совершенно открыто – не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем».
Мандельштам заметил, что дело не в ценностях: «Бывало, что снимали колокола и отливали из них пушки. Бывало, что церковное золото отдавалось на спасение страны. Одним ударом убивали двух зайцев: загребали золото и порочили церковь».
Спустя десять лет после ограбления в храм настоятелем назначили молодого иеромонаха Киприана, в миру Константина Алексеевича Нелидова. Его дворянский род происходил от «мужа знатна короны Польския», проявившего себя бойцом в Куликовской битве. После нее он навсегда остался жить в Москве, крестился, поменял имя Владислав на Владимир, а фамилию Каща-Неледзевский на Нелидов. Одному из его потомков великий князь Иван III дал прозвище Отрепьев, ставшее на двести лет фамилией рода. Это слово значило не только ветхую одежду, но и остатки льна, а в переносном смысле так называли последыша, последнего ребенка в многодетной семье.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: