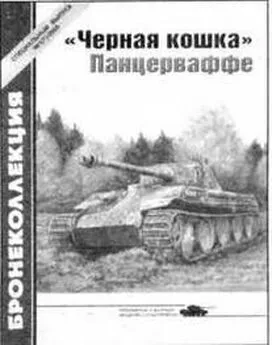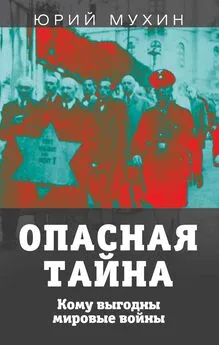Владимир Симиндей - Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике
- Название:Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906798-95-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Симиндей - Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике краткое содержание
Книга предназначена для ученых, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей России и Прибалтики в ХХ веке, современными исследованиями войн, сопротивления нацистам и сотрудничества с ними в этом регионе, вопросами государственной исторической политики и исторической памяти в Латвии, Литве и Эстонии.
Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
[7] Так, 11 августа 2010 г. глава МИД Латвии А. Ронис в своем выступлении по случаю 90-летия со дня подписания мирного договора с Советской Россией, позволившего временно отторгнуть от России исторические земли Псковщины (Пыталово и окрестности), назвал его «частью генетического кода латвийского государства» и «священным писанием» Латвии (LETA, 11 августа 2010 г.). Особенно навязчиво этот и подобные ему тезисы раскручиваются в брошюре А. Пуги, в которой неоднократно встречаются политические рассуждения на предмет «непреходящего значения» и даже «сохранения до сих пор в силе» этого договора с Советской Россией (см. рецензию на книгу А. Пуги: Puga A. Eiropa: Latvijas un Krievijas 1920. gada miera līgums. Dokumenti, liecības un atziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010 // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2012. № 1 (4). С. 174–176).а также из-за зацикленности властных кругов и официальной историографии стран Балтии на событиях 1939–1940 гг. и «оккупационной» риторике в адрес Москвы. В данных условиях, несмотря на иные разногласия и споры, все же представляется возможным проведение совместных мемориальных акций, увековечивающих память воинов Великой войны.
Эстония: на периферии военных действий
Территория нынешней Эстонии (Эстляндская губерния и северная часть Лифляндской) фактически находилась в прифронтовой полосе, а острова Моонзундского архипелага – Даго и Эзель – в 1917 г. подверглись германской оккупации. В эстонской исторической науке эти сюжеты всегда находились на периферии политического и научного интереса, хотя и отмечалась, например, стратегическая важность Таллинского военного порта и иной смежной военной инфраструктуры именно для России: « В предвоенные годы в Северной Эстонии были проведены невиданные по масштабу строительные работы по сооружению оборонительных укреплений и строительству шоссейных и узкоколейных дорог. На разные объекты строительства были привлечены помимо военных десятки тысяч человек – как местных, так и приехавших из внутренних губерний России. В Таллине быстрыми темпами были построены три кораблестроительных завода для крейсеров, миноносцев и подводных лодок» . [8] Граф М . Эстония и Россия. 1917–1991: анатомия расставания. Таллин: Argo, 2007. С. 22.
Однако в постсоветский период не обнаружено глубоких и одновременно детальных исследований Первой мировой войны. При этом февраль – март 1917 г. в Петрограде и события окончания войны на территории Эстляндии и части эстоноязычных районов Лифляндии использовались и продолжают использоваться для выстраивания национальной мифологии создания эстонской государственности в период 1918–1920 гг.
Во всяком случае эстонская историческая мысль пока не знает такого уровня книг, посвященных политике и государственному управлению в период Первой мировой войны в Прибалтийском крае, подобных, например, работе А. Бахтуриной «Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)». [9] Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). М.: РОССПЭН, 2004.
Не удалось обнаружить серьезных эстонских изданий – монографий или статей – посвященных политике немецких оккупационных властей как в Курляндии (частично в Лифляндии), так и на эстонских островах. Исключение, пожалуй, составляет изданная Сааремааским музеем работа Х. Ояло «Сааремаа в огне войны. Осень 1917 г.». [10] Ojalo H . Saaremaa sőjatules. Sügis 1917. (Saaremaa Muuseumi toimetised. 4.) Kuressaare, 2008. 226 lk.
Трудно найти и специальные исследования, посвященные конкретным проявлениям военно-экономической политики Российской империи, военным операциям в период Первой мировой войны в Эстонии или Прибалтике в целом, за исключением узкоспециальных публикаций в региональном журнале «Балтфорт», да и то зачастую они принадлежат российским авторам. [11] См., например: Новиков П. А. Несостоявшаяся десантная операция русской армии в Курляндии летом 1916 г. // Baltfort. 2012. № 3 (20). С. 24–34.
И это несмотря на то, что в Таллине (Ревеле) была сосредоточена техническая база Балтийского флота, возведен специализированный военно-морской Русско-балтийский завод, а также завод «Ноблесснер» по строительству подводных лодок и многие другие.
В эстонской историографии не принято уделять особого внимания тому, что предвоенный и военный рост промышленного производства в Ревеле выразился и в резком изменении демографической ситуации. Так, в промышленные центры Эстонии наряду с местным пролетариатом были приглашены и тысячи высококвалифицированных рабочих, техников и инженеров из Центральной России. Достаточно сказать, что в период немецкой оккупации 1918 г. и за несколько месяцев, ей предшествовавших, из одного только Ревеля в Россию эвакуировалась и бежала почти треть населения города – около 50 тыс. человек, в основном русских.
Как известно, в период с 1914 по 1918 г. в российскую армию было призвано в общей сложности до 100 тыс. мужчин-эстонцев. Национальные части (полки) были сформированы только в 1917 г. с согласия Временного правительства. Они дислоцировались в Эстонской губернии в границах, установленных Временным правительством, и в крупных войсковых операциях участия принять не успели. Поэтому эстонская историография, в отличие от латвийской, не уделяет большого внимания действиям эстонских подразделений в Первой мировой войне, акцентируя внимание на политической роли эстонских полков в период второй половины 1917 г. и начала 1918 г.
Тема Первой мировой войны обычно рассматривается эстонскими историками либо в обобщающих работах по истории Эстонии в целом, [12] См., например: Граф М. Эстония и Россия…
либо в «Освободительной войне 1918–1920 гг.» в частности. Так, подробно рассматривается история Эстонии в период Первой мировой в многотомном издании «История Эстонии» (т. 5: «От падения крепостного права до Освободительной войны»). [13] Eesti ajalugu. V, Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu: Ilmamaa, 2010.
Как уже отмечалось, собственных обобщенных исследований Первой мировой войны эстонская историография не знает. Однако на эстонский язык переведены наиболее популярные работы американских, английских, немецких и финских авторов. Например, в 2011 г. был издан перевод с финского М. Харьюла «Эстония 1914–1922: мировая война, революция, независимость и Освободительная война». [14] Harjula M . Eesti 1914–1922: maailmasõda, revolutsioonid, iseseisvumine ja Vabadussõda. Tallinn: Tänapäev, 2011.
Или перевод с французского мемуаров М. Палеолога «Царская Россия во время мировой войны» [15] Paléologue М . Tsaaririik maailmasõjas. Tallinn: Kunst, 2010.
(Таллин, 2010). (Мемуаристика вообще любимый жанр эстонских исторических издательств.) Ряд краеведческих работ посвящен инфраструктурным объектам периода Первой мировой войны. К таким работам можно отнести, например, брошюру М. Эйнсалу и О. Орро «Рохукюла. Забытая военная гавань Российской империи и другие архитектурные жемчужины». [16] Eensalu М., Orro О . Rohuküla: Vene impeeriumi unustatud sõjasadam ja selle säilinud arhitektuuripärlid. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2013.
В качестве мемуаров в 2009 г. опубликованы и дневниковые записи офицера-эстонца Ю. Тырванда «Участие в боях Первой мировой войны и в частях под командованием генерала Корнилова: дневник». [17] Tõrvand J. Võitlustest Esimeses maailmasõjas ja kindral Kornilovi väes: päevaraamat. Tallinn: Grenader, 2009.
Особое внимание уделяется, как обычно, памятникам этнической истории. Так, эстонский историк Я. Росс выпустил в Кельне на английском языке брошюру и лазерный диск с записями голосов эстонцев, содержавшихся в немецких лагерях для военнопленных в 1916–1918. [18] Encapsulated voices: Estonian sound recordings from the German Prisoner-of-War camps in 1916–1918 / ed. by Jaan Ross. Köln [etc.]. Böhlau, 2012.
Интервал:
Закладка:
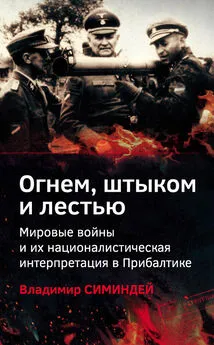

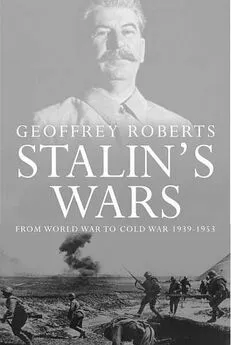
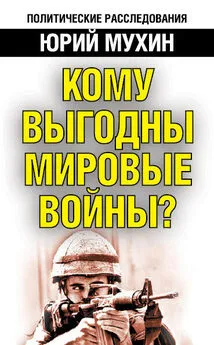
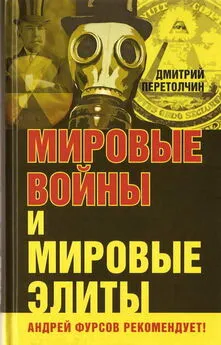

![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/1079529/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny.webp)