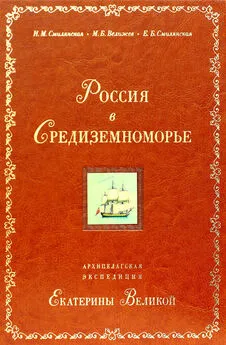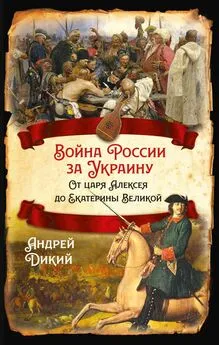М. Велижев - Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой
- Название:Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-129-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
М. Велижев - Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой краткое содержание
Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Следует отдать должное Екатерине II и, надо полагать, Н.И. Панину, в чьем ведомстве был составлен документ: в обращении отсутствовали обещания, которые могли создать у единоверцев иллюзии, будто Россия в войне ставит своей целью их освобождение. Как заметил В.А. Уляницкий, в оригинале документа слова «рассудили воспользоваться случаем к освобождению греков» рукою Н.И. Панина были заменены на слова «к облегчению жребия» [248]. Н.И. Панин и в послании начала 1769 г. к главе майнотов Г. Мавромихали, некогда высказавшему Георгию Папазоли свое пожелание иметь свидетельство о намерениях России «от власть облеченной персоны», обещал, хотя и в достаточно неопределенной форме, помощь грекам: «Ее Величество приказало мне тайно вас заверить, что пока длится эта война, по воле Бога, Она не только вас не оставит, но более того примет вас под свое высокое покровительство и окажет такую помощь, какую сможет…» [249]. Таким образом, помощь была обещана, но только на период ведения войны с турками.
Это уже по окончании войны Екатерина имела намерение утвердить в общественном сознании миф о том, что в Средиземноморье российская эскадра направилась с исключительно освободительными целями. По крайней мере, подобного рода текст она собственноручно начертала в проекте мемориальной надписи на замышляемом обелиске в честь морских побед графа Алексея Орлова и Григория Спиридова [250], и так объясняли величие российских побед и придворные проповедники [251](об этом см. подробнее гл. 9). Во время войны императрица не позволяла себе столь свободного определения задач операции. В январе 1770 г. в ответ на жалобы А. Орлова на недостаток российского сухопутного войска императрица четко констатировала: «как бы оно мало ни было, оно служить будет всегда подпорою тем народам, кои желают себя освободить от ига нечестивого; да не токмо подпорою, но еще образцом регулярства и послушания» [252]. (Примечательно, что тезис – угнетенным народам надлежит воспользоваться нашей войной с турками для обретения своей независимости, а Россия их поддержит – был вновь воспроизведен, но уже без христианской риторики, в тайном обращении императрицы к египетским беям во Вторую русско-турецкую войну) [253].
Обращение Екатерины II к балканским единоверцам стало широко распространяться среди населения в 1770 г., и к Орлову хлынул новый поток греков и славян. В течение же 1769 г., пока готовились к отплытию и затем совершали свой трудный путь эскадры Спиридова и Эльфинстона, между А. Орловым и Екатериной продолжался диалог, о котором мы можем судить по сохранившимся письмам императрицы. Эйфория, охватившая Алексея Григорьевича с приездом в Италию, не иссякала. По словам императрицы из письма П.А. Румянцеву, «граф же Алексей Григорьевич Орлов уверяет, что он надежду имеет поставить на ноги до 40000 человек и что он пишет нарочно меньше, нежели иметь может» [254]. А.Г. Орлов все более увлекается идеей освобождения единоверцев и даже как бы начинает встречать сочувствие Екатерины. Так, в собственноручном письме от 6 мая 1769 г. она хвалила план Алексея Григорьевича в отношении единоверцев за человеколюбие («во-всю в нем человеколюбие блистает») и писала: «…все сделается по желаниям Нашим, и прославимся в сей век, спасая многие тысячи под варварским игом страдающих единоверных Наших», но при этом все-таки оговаривалась: «что же все сие не так скоро исполниться может, как ваше и мое желание бы было, то сие не диво, но в естестве сего великая затея, и весьма похваляю вас, что вы начали так, как ко мне пишете» [255].
На деле императрица была озабочена не столько помощью своим естественным союзникам, сколько проблемой приобретения гаваней для эскадры. В том же письме она спешила (как выяснится, напрасно) обрадовать А. Орлова известием о том, что маркиз Маруцци получил согласие генерала Паоли на предоставление русским судам, если они окажутся в Средиземном море, корсиканских портов в обмен на русскую помощь. «И так если еще пристань не имеем, то по крайней мере перепутье есть», – сообщала императрица [256]. Действительно, после нескольких месяцев поисков способа связаться с предводителем корсиканских повстанцев Маруцци достиг цели. Его посланец прибыл 15 марта 1769 г. на остров на судне, доставлявшем боевые припасы отрядам Паоли (впрочем, на этом же судне направлялись в ставку генерала и два английских агента). Посланец Маруцци вручил Паоли письмо поверенного в делах, вызвавшее некоторое недоумение генерала: письмо было составлено в духе обращения Екатерины и содержало, по определению Паоли, одни комплименты, тогда как генерал нуждался в помощи. Эмиссар Маруцци дал понять, что имеет полномочия высказать некие предложения словесно. Тогда ему были назначены две конфиденциальные встречи с глазу на глаз с Паскуалем Паоли, на которых конкретно обсуждался вопрос о взаимодействиях [257]. По утверждению Дж. Берти, Паоли получил от России денежную поддержку [258]. Однако через несколько месяцев Франция, видимо обеспокоенная английскими и российскими посещениями генерала Паоли, предприняла наступление и вытеснила повстанцев с острова. Когда же поверенный в делах при французском дворе Хотинский запросил правительство Франции о разрешении русской эскадре воспользоваться французскими портами, он был особо уведомлен, что корсиканские рейды для российского флота закрыты [259].
Летом 1769 г. в ожидании прибытия флота А.Г. Орлов был занят созданием складов продовольствия и боеприпасов в Ливорно, на Сардинии и в Порт-Магоне, попытками приобрести на месте и вооружить собственное судно, вербовкой сторонников среди греков и славян (как он писал Екатерине, он намерен «учредя магазейны, разослав людей в разные стороны для возбуждения обще принять оружие», собрать войско, «приведя в порядок, сколько можно и время допустит») [260]. А. Орлов был озабочен созданием русской консульской службы в Италии и переговорами с греческими корсарами, готовыми вести боевые действия под российским флагом (о деятельности А.Г. Орлова в Италии см. также гл. 6, 7). Он опирался на поддержку английских консульских агентов – Джона Дика в Ливорно, в доме которого он обычно жил [261], и грека Теодора Алексиано в Порт-Магоне (о нем см. гл. 3).
Первая военная акция на Балканах: десант в Черногорию
Летом того же 1769 г. Алексей Орлов принял решение совершить первую военную акцию на Балканах. Роль Эздемировича, посланного Екатериной II в Черногорию, с которым Алексей Григорьевич еще в феврале не знал, что делать, он предназначил своему сослуживцу и приятелю премьер-майору Преображенского полка и генерал-майору армии князю Ю.В. Долгорукову, о присылке которого просил императрицу еще в своем декабрьском послании 1768 г. Долгоруков прибыл в Италию под именем купца Барышникова («приличный предлог», под которым должны были приезжать к Орлову в помощь российские офицеры). В работах Е.В. Тарле и В.А. Плугина Юрий Владимирович Долгоруков, оставивший в конце жизни мемуары, получил весьма неблаговидную аттестацию: главным образом за свой хвастливый нрав. Однако А. Орлов, видимо, ценил своего младшего сослуживца по Преображенскому полку за энергию, бесстрашие и отчасти за авантюризм и полагал, что эти качества вполне подходят для руководителя вылазки в Черногорию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: