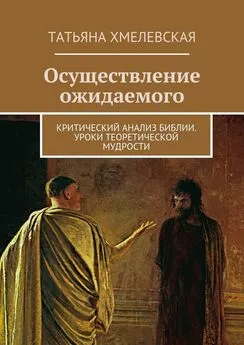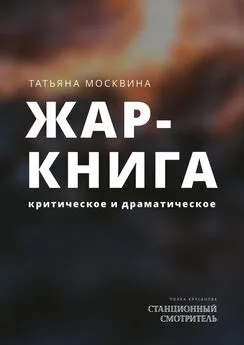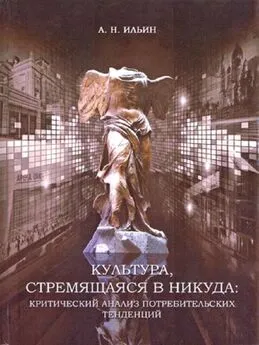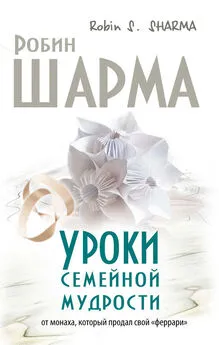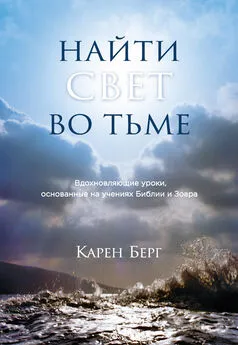Татьяна Хмелевская - Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости
- Название:Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447482855
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Хмелевская - Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости краткое содержание
Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Николай Бердяев в своей книге «Новое средневековье», рассматривая проблемы смены исторических эпох, замечает, что «все привычные категории мысли и формы жизни самых „передовых“, „прогрессивных“, даже революционных людей ХIХ и ХХ вв. безнадёжно устарели и потеряли всякое значение для настоящего и, особенно, для будущего… Скоро неловко, невозможно уже будет употреблять слова, применяя к ним старые квалификации… Условимся в употреблении слов, чтобы избежать совершенно лишних и праздных споров о словах». 21 21 http: //www. krotov. orq /berdyaev/1924 new. html/
Н. Бердяев развил мысль о том, что значение слова – такое же непостоянное явление, как и та эпоха, в которой оно живёт. Изменение значения слова есть следствие изменения характера исторической эпохи, которая наполняла своим смыслом живущее в ней слово.
В приложении к «Диалектической логике» И. В. Ильенков писал: «Если речь идёт не о словах, а о категориях диалектики, с этими словами связанных, то любая вольность, нечёткость или неустойчивость в их определениях (а тем более неправильность) обязательно поведут к искажённому пониманию существа дела. По этой причине необходимо очистить категории абстрактного и конкретного от всех наслоений, которые по традиции, по привычке или просто по недоразумению тянутся за ними через века… часто мешая правильному пониманию положений диалектической логики». 22 22 Ильенков И. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., 1997. С. 37.
«Однозначность – это условие общения между поколениями исследователей на любом расстоянии. Она гарантирует точность перевода и чистоту традиции». 23 23 Пушкин В. Г. Философия Гегеля. Абсолютное в человеке. СПб., 2000. С. 122.
Все эти выводы великих мыслителей во всей своей полноте применимы и к нашей Библии. Почему за всю историю этой книги в мире накопилось такое множество точек зрения о ней? И процессу этого накопления не видать конца. И что самое примечательное, так это то, что ни одна из них не отражает всей полноты содержания учения, т.е. нашей Библии, не снято ни одно её противоречие. Причина одна – люди не знают её искусственного языка, его однозначности. Павел по этому поводу пишет: «Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец» 1 Кор 14:11. Без знания языка Библии она и весь мир друг для друга – чужестранцы, общающиеся между собой каждый на своём языке, с низенькой платформы пристрастной субъективности.
Очевидно, что логическое мышление, будучи мышлением упорядоченным, доказательным, требует конкретности и в определении библейских имён «Христос», «Господь», «Бог Отец»… Тем более что даже без углублённого рассмотрения этих имён можно с большой долей вероятности допустить, что они в использовании на страницах Библии имеют иное значение, отличающееся от общепринятого во всём верующем мире.
Так в чём же дело? Не с конкретизации ли имён начинается узкий путь исследования «вечной книги»? Уверена, что именно их конкретизация, разграничение авторской и традиционной их трактовки разрешит одну из «малых» проблем, которая, разумеется, должна вплотную приблизить нас к объяснению ключевой проблемы учения: что есть истина о воскрешении, о творении, о Создателе и его Сыне, об аде и рае и о многом другом. Начало этого процесса лежит в плоскости интерпретации «чужестранного языка» собственным для Библии методом.
Если Рассел через действительное, присущее эпохе Пифагора толкование слова «теорема» усмотрел другой смысл некоторых положений его теории, то почему подобное не может случиться и с Библией? Вникнуть в первоначальное значение слова, которым оперирует тот или иной древний автор, для учёного с холодным рассудком – необходимое условие для занятий исследованием. Он, берясь за это трудное дело, вначале может и не подозревать о своей ответственности перед историей, перед теми людьми, чей труд он хочет расшифровать.
Язык Библии один и един по значению для всех её текстов, как для Ветхого, так и для Нового Заветов, её первой и второй части. Этим языком также написаны многие из апокрифов, что располагает сравнительно легко определить их отношение к истинному иудо-христианскому учению. Этот язык обеспечивает ему предполагаемую нераздельность, последовательность в рассуждениях, системный характер полученного знания. Иными словами, процесс дешифровки обретает целенаправленный и непременно результативный характер.
Часто употребляемой формой евангельского языка является притча – иносказательный рассказ с нравоучением. По мнению многих исследователей Библии, притча использовалась евангелистами в качестве облегчающего способа понимания труднообъяснимой мысли. 24 24 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. 1953. С. 549.
О. А. Мень так и писал: «Иисус любил примеры из повседневной жизни – притчи. В них наиболее полно запечатлевалось его учение. Притчи, – продолжает А. Мень, – Иисус сделал основным способом выражения своих мыслей… Рисуя перед людьми знакомые картины природы и быта, Христос нередко предоставлял самим слушателям делать выводы из его рассказов….». 25 25 Мень А. История религии: В 7 т. М., 1991. Т. 7. С. 60.
Вот-вот, о чём и речь: учёный этот язык поймёт по-своему, а кухарка иначе, а хитрый проповедник как-то по-другому. Такой притчей легко манипулировать легковерным общественным сознанием в целях достижения личных, или корпоративных, и, как водится, не всегда благородных целей.
В «науке принято мнение, согласно которому среди притч, восходящих к Иисусу из Назарета, нет ни аллегорий, ни притч, предполагающих аллегорическое толкование». 26 26 Канонические Евангелия. Под ред. Лёзова С. В. и Тищенко С. В. М., 1993. С. 64.
Эти выводы о библейской притче имеют давнюю историю. Немецкий философ Давид Штраус не допускает мысли о функциональном характере библейской притчи. Он не скрывает своей иронии по поводу авторского пояснения, что «притча есть форма сокрытия от народа тайны о Царствии Небесном». И объясняет такое рассуждение «какой-то ипохондрической установкой евангелиста». Он подчеркивает поэтический характер притчи, которая «должна была привлечь народ картинностью речи и поощрить силу разумения и мышления в наиболее восприимчивых слушателях…».
Со слов Д. Штрауса, «притчи у Иоанна размещены неуклюже, и это показывает то, что Иоанн не умел обращаться с подобным материалом. Привыкнув целиком создавать из самого себя речи Иисуса, он не умел сочетать подлинных традиций, переданных ему речей Иисуса со своеобразными продуктами собственной мысли… Его притчи о добром пастыре и винограднике – только аллегории, а не притчи, так как в них отсутствует историческое развитие фабулы». 27 27 Штраус Д. Жизнь Иисуса. М., 1992. С. 214.
Интервал:
Закладка: