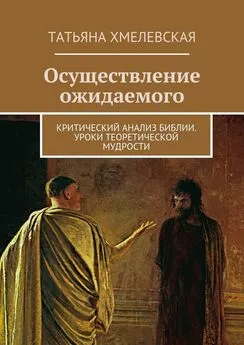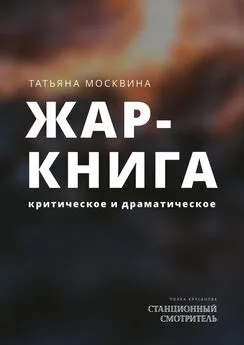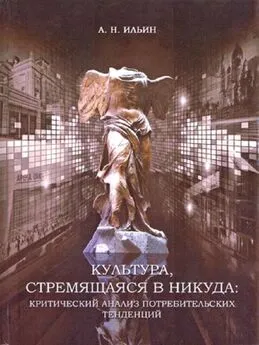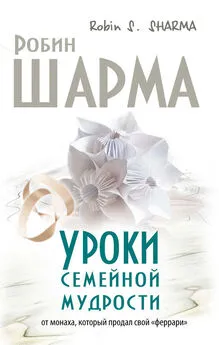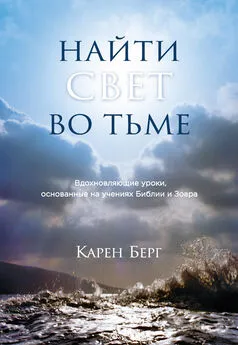Татьяна Хмелевская - Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости
- Название:Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447482855
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Хмелевская - Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости краткое содержание
Осуществление ожидаемого. Критический анализ Библии. Уроки теоретической мудрости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Понятно, данная оценка притчи объясняется той теорией, которая Христу как личности и как идеологу новой религии отписала последнее место в истории. Иными словами, его деятельность и новая вера – духовный продукт массовой культуры, которая в своём большинстве случаев оперирует иррациональными представлениями о мире. Поэтому Д. Штраус не посмел довериться автографу Евангелий. Однозначно, что этот философ, как и многие другие, подобные ему критики Библии, не «вникал в учение, не занимался этим постоянно». Для него оказалась достаточной евангельская вербальность, т. е. обыденное, бытовое, традиционно-религиозное значение её слова.
Притчеобразную особенность речи Христа не забыли отметить все авторы канонических Евангелий. У Матфея Христос ясно даёт понять, что притча есть форма иносказания. Авторы Евангелий, подводя итог притчам Христа, писали, что «Христос без притчи народу ничего не говорил» и что свои притчи он изъяснял не всем, а только ограниченному кругу людей. В Евангелии от Луки Христос даёт своим ученикам разумное поучение: «Наблюдайте, как вы слушаете. Ибо от этого зависит то, что будете иметь», т.е. знать. Евангелист устами Христа намекает на то, что его притчу надо понимать каким-то особенным образом в её единственно верном значении. Мф 13:2,3,10—15,34,35; Мк 4:33,34;15:15, 16; 4:11—13; Лк 8:10.
В Евангелии от Матфея (17:1—9) описана сцена преображения Христа. Свидетелями этого события были почему-то только три его ученика – Пётр, Иаков, Иоанн. Преображённого Христа голос, говорящий из облака, назвал «Сыном Моим возлюбленным». Обращаю самое серьёзное внимание на то, что Сыном был назван не человек Иисус Христос, а «преображённый Христос», внешность которого евангелист сравнивает с солнечным светом необычайной, слепящей, но не ослепляющей яркости. На будущее запомним это наблюдение. Не в объяснении ли тайного значения притчи таится объяснение этого «сверхъестественного явления»? Если так, то и сверхъестественности здесь не может быть. Необходимо просто знать конкретное содержание притчи. В таком случае, с чего начинается это знание или путь к нему? Понятно, что со значения искусственного языка.
И далее он поясняет: «Доселе, Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце» Ин 16:24, 25. Ученики думали, что учитель уже «сказал им прямо всё». Но Христос лишь посмеялся, проронив: «Теперь веруете?» Ин 16:31. Он знал, что ещё ничего им прямо не сказал, и они, по-прежнему, ничего не знают и, по-прежнему, слепы и глухи к его словам и притчам. Евангельским доказательством этому будет их разумение Писаний уже после смерти и вознесения Христа на небо, им же предсказанное.
У Христа притча многофункциональна: она – способ сокрытия истины не только от широкой языческой публики, но и от «властей века сего». Притчей языческому миру «Бог дал дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат (той истины, о которой приходил свидетельствовать Иисус Христос. – Авт. ) даже до сего дня». Притчей авторы и исполнители «великого дела» ввели весь мир в грех, притчей «Писание всех заключило под грехом» Рим 11:32; Гал 3:22; Ис 29:10; Втор 29:4.
Законное и обоснованное «место в жизни» библейской притче, как увидим далее, человек Иисус Христос застолбит собственной жертвой, доказательнее которой ничего быть не может. Если бы не это удостоверение притчи, не было бы ни Христа с его проповеднической деятельностью, ни его распятия, ни Нового Завета. Не было бы и христианского учения в том виде, в каком оно известно истории. Да и сама история, вероятнее всего, была бы окрашена в другие тона.
В основании всех проблем и задач учения лежит ПРИТЧА, или иносказательно-аллегорический язык учения с его конкретным значением, которое до определённого момента находится в большой тайне от читателя, т.е. этот язык для людей до некоторых пор остаётся загадкой. Поэтому нерасшифрованная притча – плодородная почва для размножения заблуждений в интерпретации библейских текстов.
Соломон в своих притчах пишет: «Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело» Притч Солом 25.2 . «Екклесиаст был мудр, он еще учил народ знанию (открывал и объяснял притчу. – Авт. ). Он всё испытывал, исследовал, и составил много притч. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно… Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря» Еккл 12:9—11 . Благодаря притчам Христос для мира стал головокружительной тайной, тем лабиринтом, из которого, как кажется, нет выхода. Но это только кажется. Выход есть!
Притчей были не только слова, но и дела Учителя. Вспомним сцену, когда он омывал ноги своим ученикам. Они смущались и сопротивлялись ему. На что последовал ответ: «Вы чисты, осталось умыть только ноги ваши, и если не умою, то не будете иметь части со мною» Ин 13:5—11. Эта притча означает то же, что и слова: «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда прямо возвещу вам об Отце», т. е. Утешитель – дух истины откроет вам истинное и единственно верное значение моих притч. Отец, которого вы увидите или познаете, откроет вам глаза к уразумению учения обо мне.
Притчу как пророки, так и их апостолы трактуют в более широком смысле, чем это принято в библейской критике. Притча в контексте учения – элемент иносказательной речи, которая включает в себя различные формы иноречия: метафору и аллегорию, часто выступающие в качестве символа и образа, сохранившие свою функции и до наших дней.
Как повелось издревле, мир понимает притчу буквально. Например, притчу о преломлении хлеба, когда Христос пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять тысяч человек, хождение Христа по воде, спасение тонущего Петра и многие другие. Мф 14:18—36.
Если бы всё дело было в буквалистском, чисто механическом значении притчи, то незачем было бы Христу и его апостолам рекомендовать исследовать их писательские труды. Читай, запоминай, да и понимай, как тебе заблагорассудится. А если ещё вспомнить признак веры: «Верующий в меня, говорит Христос, сотворит мои дела и даже больше них сотворит», тогда это самое преломление, хождение по воде и многое другое должен повторить любой и каждый человек, осмелившийся причислять себя к клану верующих. А мы видим, что таким верующим до какого-то момента не был даже Пётр, которого учил не какой-то там рядовой иудейский первосвященник, а сам Христос.
Любая библейская притча обладает своим специфическим для учения значением, которое для исполнения заповеди Христа нужно просто знать так, как мы знаем, что дважды два будет четыре, а не восемь и не двадцать. Хотя есть такие «умельцы», которые могут не понимающему ничего в математике человеку «доказать», что дважды два будет не четыре, а что-то совсем другое. Но это уже из области поздней софистики. Апостолы такого рода толкователей искусственного языка осуждали, называя их мечтателями, подающими повод к духовному распутству, т.е. к словоблудию: «Они злословят то, чего не знают… Это – безводные облака, носимые ветром, осенние деревья…, звёзды блуждающие, которым положен мрак тьмы на века…, уста их произносят надутые слова; они лицеприятны для корысти… Это – люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа» Иуд гл. 1. 1 Кор 2:14. Единство веры, замечаем, в единстве душевного и духовного. А кто нам объяснит, что это такое?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: