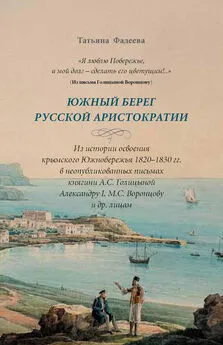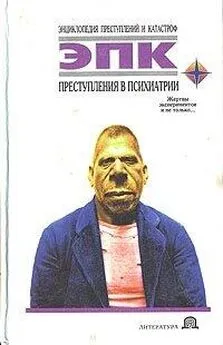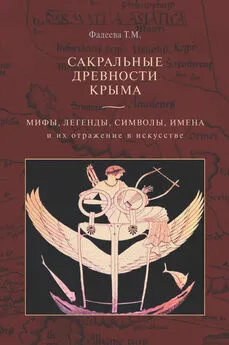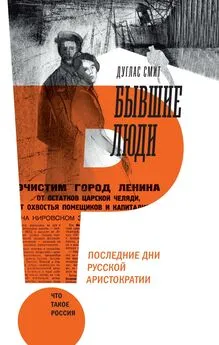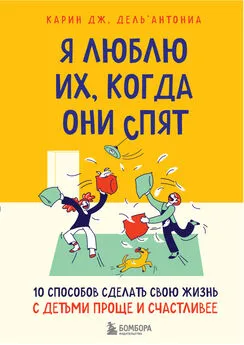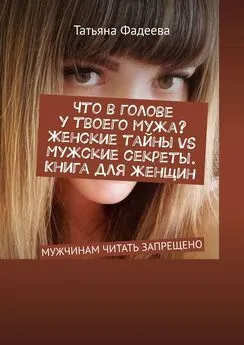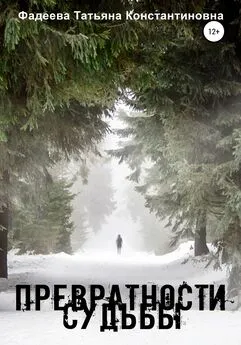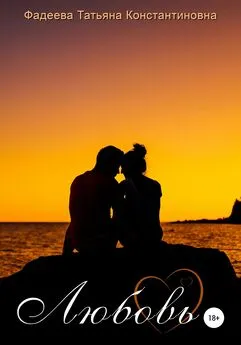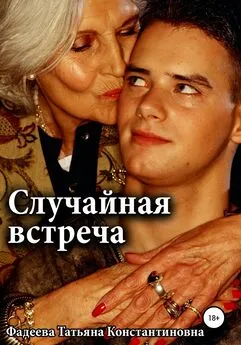Татьяна Фадеева - «Я люблю Побережье, и мой долг – сделать его цветущим!..» Южный берег русской аристократии. Из истории освоения крымского Южнобережья 1820-1830 гг. в неопубликованных письмах княгини А. С. Голициной Александру I, М. С. Воронцову и другим
- Название:«Я люблю Побережье, и мой долг – сделать его цветущим!..» Южный берег русской аристократии. Из истории освоения крымского Южнобережья 1820-1830 гг. в неопубликованных письмах княгини А. С. Голициной Александру I, М. С. Воронцову и другим лицам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2016
- Город:М.
- ISBN:978-5-89826-441-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Фадеева - «Я люблю Побережье, и мой долг – сделать его цветущим!..» Южный берег русской аристократии. Из истории освоения крымского Южнобережья 1820-1830 гг. в неопубликованных письмах княгини А. С. Голициной Александру I, М. С. Воронцову и другим краткое содержание
Новый труд автора, известного исследователя и знатока истории Крыма, сочетающего живость изложения с научной новизной, будет с интересом встречен читателями. Книга представляет интерес для профессиональных историков, краеведов, этнографов, религиоведов, искусствоведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей России, Крыма.
«Я люблю Побережье, и мой долг – сделать его цветущим!..» Южный берег русской аристократии. Из истории освоения крымского Южнобережья 1820-1830 гг. в неопубликованных письмах княгини А. С. Голициной Александру I, М. С. Воронцову и другим лицам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это письмо император послал ей через Александра Тургенева, с тем чтобы, по прочтении письма баронессой Крюденер, он взял его назад. Но Крюденер, убежденная в том, «что освобождение Греции было начертано в небесах», не могла согласиться на такое ограничение своей проповеднической деятельности и предпочла вернуться в конце 1821 г. в свое имение Коссе [14] Eynard Ch. Op. cit. – P. 372–373.
. Здесь она предалась подвигам благочестия и аскетизма вместе со своим спутником и единомышленником Кельнером. Зиму 1822 г. она провела следующим образом:
« Кроме поста, которому она подвергала себя уже давно, она выносила в комнате без печки и двойных рам температуру более 20 градусов по Реомюру, не замечая этого; таким образом, она умерщвляла свою плоть и покоряла ее. Эти лишения были для нее лишь способом выразить свое убеждение и свою надежду на то, что жизнь ее, как и сердце, – на небесах… И действительно, душа ее была радостна и даже тело ее в течение нескольких месяцев, казалось, без труда подчинялось строгому режиму, которому она его подвергала » [15] Eynard Ch. Op. cit. – P. 375.
.
Вскоре, не выдержав этих опытов, скончался Кельнер. Чета Беркгейм посетила ее зимой 1823 г. и была поражена ее «радостной просветленностью». Однако к весне 1823 г. появились признаки чахотки. Ей рекомендовали южный климат, и в этих обстоятельствах она с интересом восприняла планы княгини Голицыной, собиравшейся вместе с супругами Беркгейм в Крым, чтобы основать там колонию.
Указ 1822 г., опала и переселение из Петербурга в Крым
Запрет в 1822 г. тайных и мистических обществ был шоком для многих, считавших себя единомышленниками Александра I. При этом наиболее ярким фигурам, таким как Крюденер и Анна Голицына, предписывалось воздержаться от собраний в столице. Они предпочли своего рода «эмиграцию» единомышленников, избрав Южный берег Крыма, о котором доходили слухи как о земном рае – богатой стране, но глухой и необжитой, к тому же населенной татарами-мусульманами. Край этот, как казалось, вполне подходил для их миссионерских целей: в обществе считали, что они отправились «проповедовать Евангелие татарам».
Однако были и другие, более веские и серьезные причины. Крым, присоединенный еще в 1783 г., несмотря на заманчивые описания его красот путешественниками, и спустя 40 лет оставался практически незаселенным. Он требовал крупных капиталовложений, которые были тогда под силу только богатым магнатам, аристократии. Биограф баронессы Крюденер Шарль Эйнар прослеживает моменты принятия этого решения, которое вызревало постепенно. Так, он сообщает, что « Крюденер живо интересовалась проектом императора открыть доступ в южную Россию для швейцарских, эльзасских и вюртембергских колонистов. Она только желала бы, чтобы им придали более миссионерский характер » [16] Eynard Ch. Op. eit. – P. 274.
.
Поэтому, когда ответом на запреты правительства стало решение о переселении и в качестве такового был избран Крым, мысли эти упали на подготовленную почву. Кн. Голицына, имея во главе переселенцев идейного вождя в лице Крюденер, сама взяла на себя всю практическую сторону.
« Княгиня принадлежала к числу тех редких душ, – отмечает Эйнар, – которые не отступают ни перед какой трудностью, и умеют внушить окружающим уверенность в том, что это их собственные мысли. Г-же Крюденер предписано было провести зиму на юге, и убежденность в том, что климат Крыма будет полезен для ее столь драгоценного, сколь и хрупкого здоровья, стала преобладающим мотивом при подготовке путешествия. Весь конец 1823 и начало 1824 гг. ушли на подготовку к отъезду. С началом весны тронулись в путь. Чтобы избавить м-м. Крюденер от тягот путешествия, княгиня Голицына решила плыть по Волге… Этот переезд доставил м-м Крюденер давно не испытанное удовольствие. Вид живописных берегов, меняющийся пейзаж, по-весеннему яркий и свежий, оживил ее. По прибытии в Феодосию, она почувствовала себя лучше. Побыв здесь какое-то время, отправились в Карасубазар, куда прибыли в сер. сентября… Болезнь прогрессировала, и м-м Крюденер умерла в ночь под Рождество – с 24 на 25 декабря 1824 г. » [17] Eynard Ch. – P. 381.
.
Спустя немало времени дальний ее родственник, князь Н.Н. Голицын, писатель, историк, публицист (1836–1893), объясняет это выселение стремлением « основать новую колонию в “новых” же местах, где они легко могли бы пропагандировать свое учение, отправлять общественные моления, учредить рассадник трудолюбивых пиэтистов наподобие германских того времени религиозных корпораций. При отсутствии проявлений русского религиозного сознания, эта “немецкая штука” легко удалась. Они избрали этою обетованною Америкою Южный берег Крыма, о котором тогда доходили до Петербурга слухи как о земном рае, богатой стране и почве, вместе с тем глухой и необитаемой, где делай, пожалуй , что хочешь! Княгиня была душою этой экспедиции и собрала компанию из ста колонистову преимущественно немцев и греков, садовников, виноделов, земледельцев и проч… Ехать сухим путем было невозможно в такую даль и с такою массой народа: решено отправиться водою, каналами, Волгою и Доном. Снаряжена была колоссальная барка, на которую вся эта колония села в Петербурге, среди бела дня, у Калинкина моста и тронулась в путь » [18] Голицын H.H., князь. По поводу статей о госпоже Крюденер // Русский Архив. – 1870. С. 904–905.
. Путешествие было нелегким и длилось почти полгода: колония переселенцев, состоявшая из лиц разного звания – простолюдины и аристократы, садовники и архитекторы, выходцы из России, Лифляндии, Швейцарии, Германии и Франции, – двинулась сначала водным путем по Волге и Дону, потом через Таманский полуостров попала, наконец, в благословенную Тавриду. Не раз сильный характер и энергия княгини спасали участников этого невиданного предприятия. Так, однажды во время сильнейшей бури на Волге, когда барка едва не перевернулась, она в критический момент собственноручно срубила мачту! Наконец, близко уже к желанной цели путешествия они чуть было не подверглись нападению лоцманов и ограблению. Всем было известно, сообщает Н.Н. Голицын, что « княгиня везла с собою 500 000 рублей ассигнациями на устройство колонии и покупку имения. Их вовремя предупредил один из путешественников, грек Талера, услыхавший греческий разговор злоумышленников » [19] Голицын Н.Н. Указ. соч. – С. 906.
.
Как протекало это необычное путешествие? Некоторые его подробности сообщает французский писатель Луи Алексис Бертрен (1852–1918) проживавший в Феодосии и в Судаке (отсюда псевдоним Луи де Судак). Его отец, приглашенный в качестве инженера на строительство железной дороги, женатый на дочери керченского градоначальника А.З. Херхеулидзе[ва], уже обосновался в Крыму. Луи, получив образование во Франции, возвращается в Феодосию, где проживает семья отца, и посвящает себя литературе, одновременно исполняя обязанности французского, затем турецкого и даже испанского консула. Его интересуют судьбы французов, а более – француженок, оказавшихся в Крыму: дело «Ожерелье королевы», связанное с именем графини де Ламотт-Валуа, о котором публикует несколько очерков, поиски могилы баронессы Крюденер, скончавшейся в Крыму; попутно он сообщает некоторые подробности о княгине Голицыной. Источники его сведений – беседы со старожилами преимущественно европейского происхождения – Боде, Ларгье, Жакмар и др., а также архивные сведения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: