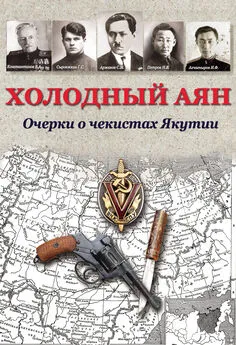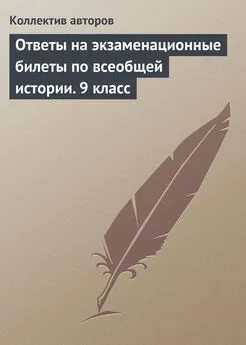Коллектив авторов - Югославия в XX веке. Очерки политической истории
- Название:Югославия в XX веке. Очерки политической истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-121-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Югославия в XX веке. Очерки политической истории краткое содержание
Для историков и широкого круга читателей.
Югославия в XX веке. Очерки политической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
30
Дефицит политической борьбы, как мы уже видели, не наблюдался в Сербии никогда. А потому, при полном отсутствии политической культуры, она и после 1903 г. не могла стать «главным критерием парламентской демократии»… Более объективные (по сравнению с авторами «Новой истории сербского народа») сербские исследователи осознали это уже давно: «Несмотря на то, что идеологических причин для острого идеологического соперничества не имелось, оно продолжалось с большой ожесточенностью. У представителей партий, особенно тех из них, кто был избран депутатом скупщины, отсутствовало (кроме редких исключений) чувство ответственности в использовании свободы политического действия, которую дает парламентская система. И вскоре стало ясно, что многие сербские политики просто не понимают, как применять систему, основанную на свободе и терпимости. Борьба между партиями, а равно и внутри них самих, часто велась с необузданной страстью, причем без особой разницы – шла ли речь о жизненных государственных интересах или второстепенных вопросах» (Вучковић В. Унутрашње кризе у Србији и Први светски рат // Историјски часопис. Београд, 1965. Књ. XIV–XV. С. 175).
31
Важно заметить, что данная цитата взята нами из черновика выступления Пашича в скупщине. В самом выступлении она не прозвучала (что видно из сборника речей вождя радикалов). И следовательно, здесь мы можем говорить не о банальном демагогическом приеме, а о реальном убеждении.
32
Логика радикалов, при объяснении ими концепции «партийного государства», предельно проста. «Разве крестьянское государство может реализоваться как-то иначе, кроме единственного способа, когда государственная власть поставлена на службу крестьянской же партии?», – задавали они риторический вопрос. Но зачем в принципе это им было надо? Есть у них и на то ответ: «Такое партийное понимание государства облегчило бы примирение крестьянских масс с государственной идеей» (Јовановић С. Влада Александра Обреновића. Књ. 1 // Сабрана дела С. Јовановића. Београд, 1990. Т. 6. С. 108).
33
Показательный пример – находясь в 1916 г. в Париже, принц-регент Александр Карагеоргиевич (военный предводитель героической Сербии!) не был принят своим «союзником» – бельгийским королем Альбертом. Не странно ли? Раймон Пуанкаре записал 28 марта в дневник: «Я спросил Броквилля, может ли он мне частным образом сказать, почему король отказался от визита сербского принца? „Я не знаю причины, – ответил Броквилль, – но догадываюсь о ней. Когда бельгийское правительство сочло нужным наградить принца военным крестом, король не дал на это своего согласия, и я понял, что он возлагает на нынешнюю династию вину в убийстве короля Александра“» (Пуанкаре Р. На службе Франции. М., 1936. Т. 2. С. 294).
34
Австро-венгерская дипломатия прекрасно понимала все «значение» Пашича при решении вопроса о сербском вооружении в ее интересах – еще в январе 1905 г. посланник Думба писал в Вену, министру Голуховскому: «Если мы вообще хотим сделать что-то для „Шкоды“, то прежде всего должны свалить Пашича» (Цит. по: Ђорћевић Д. Царински рат Аустро-Угарске и Србије. 1906–1911. С. 67).
35
Великий князь Константин Константинович Романов (1858–1915) – внук Николая I и племянник Александра II.
36
«Белград был спокоен, – писал русский очевидец. Не слышно не криков, ни песен, ни пьяных разглагольствований. Каждый занят – занят так сильно, что для страха за исход войны, для тревоги за близких, даже если и чувствуются они где-то в глубине души, не остается уже времени. Бояться некогда – некогда и скорбеть… Война так реальна, настолько захватывает все сферы жизни, что из кровавой трагедии она превратилась в громадную общественную работу… Эта простота, эта сосредоточенность и деловая напряженность импонируют больше, чем какие бы то ни было речи, демонстрации и песни» (Вольский Cm. Письма с Балкан // Русские о Сербии и сербах. С. 536–537).
37
«Зафиксированная и аккумулированная в бесписьменной народной культуре, хранимая в живой памяти и передаваемая механизмами неукоснительных традиций, ограниченная совокупность знаний и навыков вполне обеспечивала хозяйственный процесс» (Кузьмин М.Н. Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека // Вопросы философии. 1997. № 2. С. 60).
38
Этот пример подтверждает типологически емкий вывод Э. Геллнера – «Аграрное общество не обладает ни ресурсами, ни мотивами, необходимыми для того, чтобы грамотность распространялась широко, не говоря уже о том, чтобы она стала всеобщей» (Геллнер 3. Пришествие национализма // Нации и национализм. М., 2002. С. 150).
39
По словам наблюдателя из России, «серб остается по преимуществу земледельцем и свинопасом, а если судьба выбрасывает его из обычной сферы родительского дома, то он охотнее всего обращается к чиновничьему или военному делу. Собственно мещанское сословие поэтому вполне чуждо сербскому народу» (Вейнберг Е. Сербия и сербы. Этнографический очерк // Русские о Сербии и сербах. С. 473).
40
Радикалы всегда высоко оценивали этот закон. По мнению Аврама Петровича, «им обеспечено само существование нашего, в основном земледельческого, народа. И следовательно, в Сербии не может быть бездомных, которых есть немало во всех других странах» (Петрович А. Успомене / приред. Л. Перовић. Горњи Милановац, 1988. С. 43).
41
Прошли десятилетия, но в мышлении одних и других опять же ничего не изменилось. В начале рокового 1914 г. оказавшийся в сербской столице русский турист писал: «Белград делает сейчас заем в 40 миллионов франков, из которых 20 миллионов предназначено на постройку общественных зданий… Многие находят, что для Белграда это расход чрезмерный», утверждая, «что украшать город хорошо…. но, что пушки, пожалуй, надежнее. Не лучше ли иметь лишних 20 скорострельных пушек, чем построить один дом». В ответ на это, гость вспомнил о своей встрече с мэром города Праги, «когда он показывал народный банк, который обошелся чуть ли не в четыре миллиона франков. Я спросил, как может маленькая Чехия возводить такие дворцы, которые считались бы роскошью даже в России или во Франции. Он ответил, что положение России и Чехии несравнимо… Чешский крестьянин знает, что он окружен со всех сторон немцами, которые хотят задавить его самосознание, ему тяжело, его надо подбодрить. Вот и строятся дворцы для обслуживания народных нужд, чтобы показать народу его силу и мощь его единения. Каждая такая постройка есть новая крепость, она придает крестьянину веру в самого себя, в свои силы и укрепляет его дух» (Комаров Г.В. В Белград на Пасху // Русские о Сербии и сербах. С. 575).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: