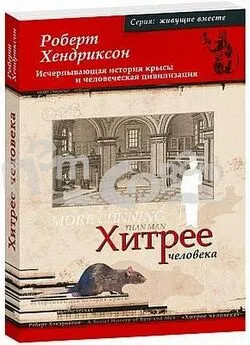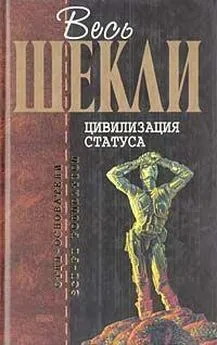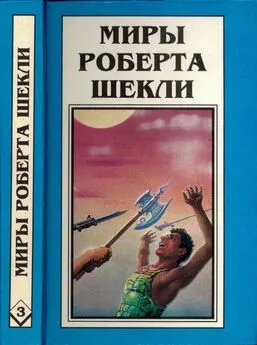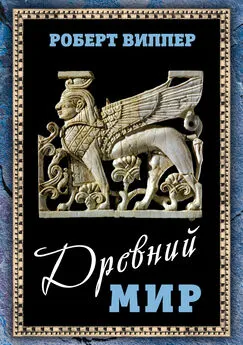Роберт Виппер - Римская цивилизация
- Название:Римская цивилизация
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906914-02-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Виппер - Римская цивилизация краткое содержание
Как же зарождалась Римская цивилизация? Как Рим завоевывал Европу и Средиземноморье?
Крупнейший отечественный специалист по истории Древнего Рима Роберт Юрьевич Виппер в своем фундаментальном труде «Римская цивилизация» дает широкую панораму древнеримской жизни во всех ее аспектах со времени зарождения Римской цивилизации в V веке до н. э. и до позднейшего периода принципата Августа. Автор подробно описывает условия возникновения великой Римской империи, показывает, почему она стала основой того, что мы сегодня называем западной цивилизацией.
Римская цивилизация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В обществе никогда нет совершенно резко очерченных разрезов, всегда имеются переходные слои. В среде союзников были, конечно, и крупные дома в роде римских gentea; были средние землевладельцы, были торговцы и негоцианты неримскнх городов. С другой стороны, в Риме развивался обширный класс пролетариев из мелких ремесленников, ходебщиков и разносчиков, людей, занятых в извозе и переноске тяжестей, в торговой службе, которые, конечно, не могли ни в каком смысле участвовать в эксплуатации Италии и ее угодий. В деревне образовался также новый класс из безземельных; это были частью пострадавшие от конфискации, частью же лишние дети крестьянских семей, которым не доставались более земельные наделы за прекращением земледельческих колоний; им приходилось искать заработка или в соседних больших экономиях, или в городе. Мы уже видели, какое заметное место занимают вольнонаемные батраки в сельскохозяйственных соображениях Катона. Когда Цицерон говорит о жалких и беспокойных agrestes, он, очевидно, разумеет тот же разряд. Тяжелая участь, наемный труд, необеспеченность существования сближали agrestes с городскими пролетариями, тем более, что иногда это были те же самые люди, менявшие занятие и местопребывание. Получалась некоторая промежуточная среда бедноты, в которой plebs rustica и plebs urbana близко соприкасались между собою. Падение крестьянской Италии и причины этого явления очень занимали еще античных писателей. Тот крупный римский историк конца республики (вероятно Азиний Поллион), которым пользовался Аппиан в своей истории гражданских войн, оставил нам красноречивую картину захвата Италии римским капиталом. В его глазах само появление крупных пользователей на казенной земле составляло уже опасное начало, но это еще не была главная причина уклона и гибели большей части римского и италийского крестьянства. Сам крупный землевладелец или сторонник латифундиального хозяйства, он решается упомянуть о некотором идеале, к сожалению, для него, не осуществленном: хорошо, если бы мог образовываться из обойденных раздачей крестьян, из этой «трудолюбивейшей итальянской породы», постоянный состав сельскохозяйственных рабочих или второстепенных пользователей под руководством на службе больших экономий. В этой мысли историка заключено обычное оправдание, свойственное эпохам капиталистического подъема, когда завоеватели, крупные хозяева и техники стараются уверить себя и других, что в их жестоком деле, в приносимом ими разорении есть и возмещение беды, есть новый источник выгоды для разоряемых. Но римский историк находит, что и это утешение не было дано Италии. Многочисленная трудовая масса не получила применения в новых больших поместьях; собственник и крупный оккупатор бросились на приобретение дешевых рабских рук, и в этой-то конкуренции невольников заключалась главная причина обезлюдения Италии и падение старого плебейства.
Историки нового времени, современники роста европейско-американского капитализма, усиления всемирной торговли, ухода разоряемого крестьянства в города и жестокого соперничества рабочих групп между собою приняли эти объяснения Аппиана. Увлекаясь аналогиями Рима II–I вв. до Р.Х. с Европой XVIII–XIX вв., они пошли еще дальше. Моммзен представляет себе Италию наподобие современной деревенской Европы под давлением громадного и дешевого подвоза продуктов первой необходимости, особенно хлеба. Рим и другие города начинают потреблять исключительно иностранные продукты, доставляемые новообразованной империей; крестьянская, хлебопашеская Италия лишается рынка и гибнет.
В последнее время против объяснений подобного рода выступил довольно энергично итальянский историк и социолог Сальвиоли [2] Salvioli. Le capitalism dans le mond antique, trad. P. A. Bonnet, Paris, 1906.
. В этом ученом своеобразно сплетается сторонник социально-философских теорий марксизма и реалист-наблюдатель современной Италии, глубоко убежденный в исконности и основной неизменности национальной культуры своей страны. Сальвиоли исходит из новых экономических категорий, выставленных европейско-американской культурой последних двух веков, но думает, что старинная Италия (которую он неосторожно отождествляет даже в заглавии книги с «античным миром») не дошла до форм развитого капитализма, остановившись на довольно скудном, тихом, замкнутом хозяйстве. Сказочная роскошь и расточительность Древнего мира, о которой повествуют, главным образом, сатирики и обличители, по его мнению, до крайности преувеличена. Богатства Древнего мира, говоря безотносительно, были несравненно скуднее и мельче новоевропейских. От завоеваний, от подвоза иностранных продуктов богател только Рим, издалека привозились сюда только предметы редкие, для немногих богатых людей, остальная Италия как была, так и осталась глухой деревней. Капитал направился только на непроизводительные формы откупов и ростовщичества, не захватил индустрии и не пытался завоевать сельские области крупным сбытом, ремесло оставалось узким местным производством.
В своем справедливом протесте против чрезмерных аналогий между Римом и европейской современностью Сальвиоли, может быть, заходит несколько далеко, в другую, противоположную сторону: капиталистическое предприятие в Италии, без сомнения, сравнительно мало захватило индустрию, но сильно выразилось в сельском хозяйстве; оно не завоевало, может быть, всей Италии, но, во всяком случае, далеко зашло за пределы Рима и еще двух-трех больших городов. Рим не только покупал на свои непроизводительные ростовщические деньги, и покупал не только чужеземные редкие товары или производимые в подгородных имениях лакомства и цветы. Из описаний и советов Катона мы ясно видим, что Рим и другие города, по крайней мере, западного берега были обширными рынками, которые покупали продукты сельских экономий, сравнительно отдаленных, и которые, в свою очередь, были необходимыми для этих имений поставщиками фабрикатов, приготовляемых ими же в больших размерах. Напрасно считать море единственным торговым путем того времени: мы видели опять, какое значение придает Катон положению поместья у реки и у большой дороги, как далеко он считает возможным по сухому пути экспедировать сельскохозяйственную машину.
Приняв все это во внимание, мы опять готовы вернуться к характеристике Аппиана, мы еще более, чем римский историк конца республики, готовы будем видеть первый толчок к падению крестьянской Италии в самой оккупации государственной земли, в том, что капитал с каперства, с захватов на море, с военных кампаний, кончавшихся контрибуциями, бросился на эксплуатацию земли. Мы только остережемся делать заключение о его всепроникающей, всеобъемлющей роли; большая часть Италии все-таки и после кризиса II в. осталась вдалеке от погони за торговой выгодой, от колебания цен, от крупных расчетов на сложные конъюнктуры. Но мы должны отказаться и от того взгляда на экономическую жизнь Древнего мира, который относит в круг влияния культуры и капитала только береговую полосу, а все остальное безраздельно передает царству натурального хозяйства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
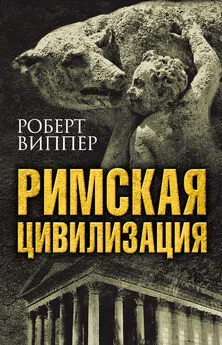
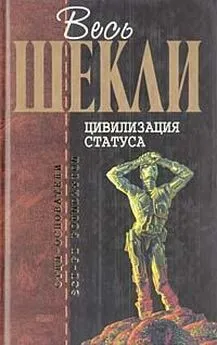

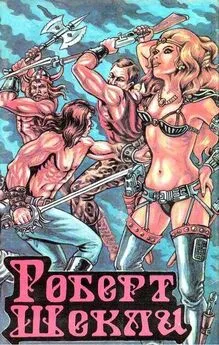
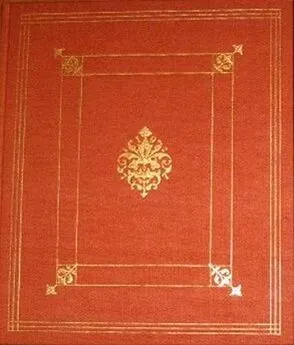
![Дональд Робертсон - Думай как римский император [Стоическая философия Марка Аврелия для преодоления жизненных невзгод и обретения душевного равновесия] [litres]](/books/1061601/donald-robertson-dumaj-kak-rimskij-imperator-sto.webp)