Павел Гнилорыбов - Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны
- Название:Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-92281-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Гнилорыбов - Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны краткое содержание
Как изменилась Москва на рубеже веков? Как протекали процессы урбанизации? Как росла, прихорашивалась столица, но при этом не замалчивала текущих проблем и честной бедности? Отправляемся в путь!
Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рост населения усугублялся жилищным кризисом. Строительный рынок не поспевал за все новыми персонажами, прибывающими в Москву в поисках счастья и денег. Маленькая вместительность центра была обусловлена низкой этажностью застройки: дворянская Москва погибала не одно десятилетие! Некоторые дома надстраивали одним-двумя этажами. П. Д. Боборыкин пишет, что на весь город есть всего три-четыре приличных отеля, вроде «Дрездена» или «Лоскутной», но цены в них гораздо выше петербургских.
Меблированные комнаты пугали грязью, зловонием, непомерной стоимостью. Так описывают знаменитые «Челыши», стоявшие на месте возведенной позднее гостиницы «Метрополь»: «…этот приезжий люд, вот уже десятки лет, довольствуется самыми грязными комнатами, не освещенными коридорами, запахом кухни и всевозможными азиатскими неудобствами». «Челыши» запомнились и И. Ф. Горбунову: «Челышевские номера» на площади Большого театра были обыкновенным пристанищем заезжих в Москву провинциальных артистов. Удушливый, спертый воздух, полный микробов, видимых невооруженным глазом, отсутствие каких-либо удобств, грязные неосвещенные коридоры, оборванная прислуга составляли специальность этого актерского приюта» [121] Горбунов И. Ф . Воспоминания // Горбунов И. Ф . Юмористические очерки и рассказы. М., 1962.
.
А. В. Амфитеатров, касаясь бытовой стороны своей жизни, вспоминает разудалый 1883 год: «Веселая богема собралась тою зимою на совместное житье в верхнем – пятом – этаже московских меблированных комнат Фальц-Фейна на Тверской улице. Юная, нищая, удалая, пестрая… Все гении без портфеля и звезды, чающие возгореться. Несколько студентов, уже изгнанных из храмов науки, несколько студентов, твердо уверенных и ждущих, что их не сегодня завтра выгонят; поэты, поставлявшие рифмы в «Будильник» и «Развлечение» по пятаку – стих; начинающие беллетристы, с толстыми рукописями без приюта, с мечтами о славе Тургенева и Толстого, с разговорами о тысячных гонорарах; художники-карикатуристы; консерваторский голосистый народ… Жили дарами Провидения и поневоле на коммунистических началах: на пятнадцать человек числилось три пальто теплых, семь осенних и тринадцать – чертова дюжина! – штанов» [122] Амфитеатров А. В . Из литературных воспоминаний.
.
Доходных домов пока еще относительно немного, и за комфортабельным съемным жильем приходится отправляться на окраины. Вышколенная прислуга только-только появляется, господам приходится довольствоваться наскоро переученными носителями крепостной школы либо крестьянскими девками.
Бывшие дворянские хоромы можно было снять за несколько тысяч рублей в год, преимущества выражались в наличии огромного участка, фактически дачи в самом центре города, а неудобства – в отвратительном ремонте и отсутствии удобств. Рабочие перебивались каморками или же кроватями. Пролетарии довольствовались в жилищной сфере статусом «коечников». Беспросветное существование в казармах много раз описывалось дореволюционными авторами.
Д. И. Никифоров возмущался: «Было ли мыслимо в прежнее дореформенное время, чтобы общество всецело увлекалось такими произведениями, как описание жизни различных трущоб: Максима Горького, Андреева и их последователей, где грязь жизни проповедуется, как идеал!» Самые прогрессивные предприниматели старались исправить положение, но их усилия были каплей в море неустроенного быта. Урбанизация пришла в Москву слишком быстро и неожиданно. Перестраивалось все: городской быт, общественные отношения, жилищная сфера.
Городское благоустройство также не могло угнаться за резким ростом населения. Из бульваров пользовались популярностью Пречистенский и Тверской; на остальных ночевали бродяги, карманники и бездомные собаки. В Чистых прудах вода отчаянно «цвела» каждый сезон, и зеленевшая масса распространяла исключительно зловоние.
Александровский сад находится в запустении, знаменитый грот был исписан нецензурной бранью. Летом московские улицы атаковала пыль. О, всепроникающая пыль Первопрестольной! От тебя бежали в тенистую гущу Сокольников, Нескучного сада, Петровского парка, на ближние и дальние дачи, ты сковывала дыхание и заставляла чихать без перерыва.
Советские путеводители с гордостью рапортовали, что до революции в Москве было всего лишь 34 сквера с общей площадью зеленых насаждений около 2000 гектаров, в то время как 1960 год Москва встречала, имея в наличии 7200 га природных «легких» [123] Двинский Э. Москва. Спутник туриста. М., 1961.
. Грязь, неразбериха, сумбур, антисанитария были постоянными спутниками торговли. «Довольно любопытно, что в Москве квас и ветчину должно искать в сундучном ряду, шахматы в лапотном, перья в косметическом магазине, рукописи в кожевенном ряду», – писал В. Ф. Одоевский. Жители ахали, заглядывая за парадный фасад Охотного Ряда и Верхних торговых рядов. Сравнение с бухарскими и самаркандскими рынками не шли Москве на пользу. «Все жалуются, все кричат или, по крайней мере, те, кто желал бы видеть хоть несколько менее татарское хозяйство… Стали мостить и так, и этак, пробовать и асфальт, и торцовую мостовую, и какие-то кирпичики; всаживали деньги в болотистые местности, подновляли и подновляют бульвары; выписывали из-за границы даже деревья для бульваров. Кое-что и сделано, но в общем все хромает; мостовые почти везде плохие, осенью и весной вас немилосердно толкает на санях и дрожках: ухабы, колеи, горы несчищенного снегу и льду, потоки грязи – все как и прежде».
Эстафету Боборыкина в описании московской жизни 1880-х перенимает А. П. Чехов. Антон Павлович – типичное дитя реформ; происходил из семьи небогатого купца, детства не видел, но читал взахлеб и рано взвалил на себя ответственность за родных. Чтобы найти себя и заработать на жизнь, «выдавливая из Чехова Чехонте», литератор за пять лет напишет почти пять сотен рассказов.
Живет небогато, по средствам, не может с уверенностью говорить о завтрашнем дне. В более поздние годы Чехов будет шутливо писать Ф. О. Шехтелю: «Если Вы не дадите мне до 1-го числа 25–50 р. взаймы, то Вы безжалостный крокодил» [124] Малинин Н. Финь-Шампань и Чехонте // Новая Юность. 1997. № 3–4.
. Вокруг двадцатипятилетнего юноши разворачиваются ежедневные городские сценки, что дает фельетонисту не только хлеб, но и пищу для серьезных размышлений.
На протяжении трех лет, с 1883 по 1885 год, Чехов создавал «Осколки московской жизни», бесценную энциклопедию почти всех городских явлений той поры. Впрочем, главный редактор «Осколков» Николай Лейкин поставил перед молодым писателем достаточно специфическую задачу: «Говорить надо обо всем выдающемся в Москве по части безобразий, вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
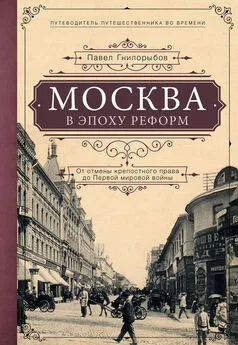

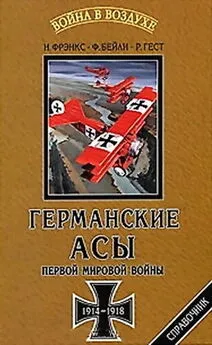

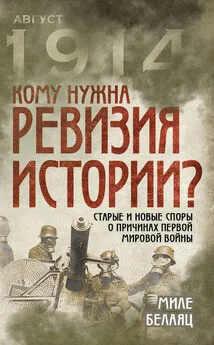


![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/1079529/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny.webp)

